Пауль Бредлов.
Фальшивка "рапорт Стаглецкера".
Вильгельм Шнайдер.
Вацлав Пых.
Приложение 1: избранные места из стенограммы процесса над Эрихом Кохом.
Приложение 2: избранные документы из агентурного дела агента "Тень" (Вацлава Пыха).
Катрина Девилье
В одном из выпусков моего журнала «История обо всем» я привел статью Катерины Девилье «Что я знаю про Катынь». Наверное, многие читали ее романы «Лейтенант Катя» и «Возвращение к О.». Необычная судьба: юная француженка накануне войны оказалась вместе с родителями в Польше, а потом поступила на службу в Красную Армию в чине лейтенанта. Ей принадлежит первенство в расследовании Катынских захоронений. Об этом она рассказывает в статье. В ней содержатся небезынтересные детали, которые, возможно, способны изменить некоторые, слишком поспешно сделанные выводы. Была ли это «партизанская работа»? Катерина Девилье не питает иллюзий относительно Сталина и других советских руководителей. Она пишет: «Советы лгали не меньше немцев». В другом месте, по поводу Катынского преступления: «Меня не интересовало, кто это сделал. В то время я слишком плохо знала, на что способны немцы, и еще не сформулировала для себя ту истину, что некоторые русские от них мало отличаются». Она подробно описывает характерные особенности «русских палачей». В ангажированности ее вряд ли стоит подозревать. Если Катерина Девилье пишет, что Катынь - преступление немцев, то далеко не потому, что радеет за советский строй, она просто объективна.Вместо того, чтобы демагогически вздыхать "Кому верить? Чему верить?" Деко не мешало бы самому критически взглянуть на свидетельство Девилье.
В апреле 1941 года Катерина Девилье была во Львове. Она узнала, что студенты, заключенные в Брест-Литовской крепости, будут освобождены. В этой же крепости с ноября 1939 года находился ее дядя, и никто ничего не знал о его судьбе. Она разыскала студентов, чтобы что-нибудь разузнать относительно дяди. Увы, о нем они ничего не слышали. В качестве слабой компенсации они рассказали ей о своем товарище по камере, Збигневе Богусском.
Катерина была ошеломлена. Збигнев Богусский! Друг детства! Он служил в польской армии и попал в советский плен в сентябре 1939 года. Его отправили в лагерь польских военнопленных офицеров в Козельск, он бежал, но был пойман и во второй раз попал уже в Брест-Литовскую крепость. Львовские студенты встретили его там в апреле 1941-го. Он рассказывал им «массу пустяков, - пишет Катерина, - вспоминая свое детство и школу, пляж в Сопоте, старую каргу, которая не позволяла воровать конфеты, водяные бомбы...» Неопровержимый вывод: «Несмотря на плохое обращение и частое пребывание в карцере, Збигнев, безусловно, был еще жив в апреле 1941 года».
В 1941 году, участвуя в военных действиях в составе Красной Армии, Катерина была ранена. На больничной койке она узнала о Катынских захоронениях. В то время она не раздумывала над этим вопросом, ее задача была в другом - выздороветь. Но поскольку у нее было много друзей-поляков, она была близка к тому, чтобы принять точку зрения Геббельса: это - преступление Советов.
Через год Катерина снова попала на фронт. Она должна была сопровождать делегацию от польской армии генерала Берлинга, отправлявшуюся в Катынь.
Возможно ли такое забыть? «Все осталось так, как было при немцах. На площадке был Установлен барак, который играл роль музея. Музея советских зверств, состоящего из экспонатов, отобранных с немецкой тщательностью. Все там было сгруппировано, упорядочено и классифицировано, всюду ощущался невыносимый порядок в стиле третьего рейха. Книги с золотыми тиснениями и подписями именитых посетителей из-за рубежа, копии решений, ряд фотографий менее известных гостей - и все это в алфавитном порядке. Бумаги, письма, карандаши, ручки, фотографии, портмоне казненных и фотографии их трупов также в алфавитном порядке. В алфавитном же порядке список жертв Катыни, разделенный на равные промежутки по принципу принадлежности к одному бараку».
И именно тогда Катерина испытала самое глубокое удивление в своей жизни. «В стопке на букву «А» я увидела имя своего дяди, а на букву «Б» - Збигнева Богусского. Збигнева, расстрелянного в марте 1940... и сидевшего в камере Брест-Литовской крепости с львовскими студентами в... апреле 1941-го?»
На секунду ей показалось, что она сошла с ума. Она кинулась к вещественным доказательствам. «Ящик дяди Христиана был пуст. В отделении Збигнева была его детская фотография и копия письма матери от 6 марта 1940 года. Подпись - его». И снова - тень безумия: «Я ничего не понимаю».
Она все поняла уже через несколько месяцев. Или подумала, что поняла. Вернувшись однажды в Польшу, она встретила фронтового товарища, который был поражен странным обстоятельством - письмом, которое он якобы написан своей матери. В тот момент, когда письмо было написано, он находился где-то в хабаровских рудниках и вряд ли мог писать вообще что-либо. Но подпись под письмом, вне всяких сомнений, была его собственная. «Вот только письмо... Но я никогда не писал его!»
И в этот момент она поняла, что Катынь - дело, целиком сфабрикованное немцами. Наверное, самая чудовищная фальсификация за всю историю человечества. «Советские деятели - Сталин, Хрущев и их последователи - лгали не меньше немцев. Ложь и тех и других обладала одним свойством - будучи неоднократно повторена и отражена в различных документах, она переставала быть ложью и становилась свершившимся фактом».
Бумаги, найденные в карманах убитых? Это дело Шелленберга, шефа контрразведки и его знаменитой группы «Новости», про которую он сам писал в своих мемуарах: «Они могли сделать все что угодно, подделать подпись так, что ни одна графологическая экспертиза этого бы не обнаружила». Под предлогом сбора информации, относительно пропавших товарищей, так называемые «спасшиеся» поляки в октябре 1941 года контактировали с семьями погибших и изучали их бумаги, почерки, подписи. Благодаря этому стало возможно осуществить подделку.
У Катерины Девилье было большое преимущество во время ее пребывания в Катыни перед западными журналистами: она могла непосредственно общаться с местным населением. И что же она узнала? К осени 1941 года «жители деревень, в районе Гнездово, возле Смоленска были насильственно депортированы. Более удаленные деревни не тронули. Однажды пришли немецкие солдаты полка связи № 537. Они установили в лесу громкоговорители и смертельно напились.
Несколько человек расквартировали у местных жителей. Они уже немного понимали по-русски и разговаривали со своими хозяевами. Поэтому известны некоторые имена: солдат Гезеке, сержант Рози, адъютант Ламмерт, шеф-адъютант Крименский, лейтенант Готт, полковник Аренс. Местные жители запомнили их навсегда, поскольку, пока их, в свою очередь, не депортировали, каждый день слышали, как из леса доносились немецкие военные марши и выстрелы. Возвращались пьяные, залитые кровью солдаты. По пьянке они многое рассказывали. Связной полк 537? Чушь, на самом деле они принадлежат к группе десанта «айнзатц-коммандо» СС II, а сейчас прибыли с Украины, где уничтожили всех киевских евреев. А кого же они убивают здесь? Тоже евреев? Солдаты смеялись. О нет, более тонкая, ручная работа, с револьвером... Лучше, много лучше. Об этом рассказывали крестьяне, пережившие ужасы немецких лагерей и вернувшиеся домой после войны. Но за пределами СССР никто об этом не знал, никто не услышал эти слова».
[...]
Остаются еще собранные и опубликованные мною новые свидетельства. Во-первых, рассказ Катерины Девилье; Ее друг детства Збигнев Богусский был жив весной 1941 года, хотя и значился в списках погибших в Катыни. Это доказывает, что преступление должно было бы быть совершено осенью 1941 года, поскольку еще необходимо учитывать фактор холодного времени года. Но может быть, Катерина Девилье просто ошиблась? Странно, что среди заключенных Козельска нет Збигнева Богусского, зато есть два других. Но мадам Девилье заверяет также, что сама лично слышала рассказы местных крестьян, полностью подтверждавшие советскую версию. Вряд, ли можно предположить, что на этих крестьян оказывалось какое бы то ни было давление. И они все, все до одного, побили, что преступление совершили немцы осенью 1941 года в Катынском лесу.
Кому верить? Чему верить? Мадам Катерина Девилье пришла на передачу «Трибуна истории».
Хрупкая, темноволосая Катерина Девилье производила впечатление человека эмоционального и решительного. Она беседовала в прямом эфире с мадам Генри Монфор и месье Юзефом Кжепским. Я уже говорил, что ее история вызвала много комментариев. Под перекрестным огнем вопросов она не отступала ни на йоту от своего рассказа. На самые провокационные вопросы, на откровенные инсинуации она отвечала совершенно спокойно и с замечательной точностью. Если Кжепский пытался поймать ее на несоответствии ее показаний и доказанных фактов, она не терялась. С легким польским акцентом и спокойной уверенностью она отвечала:
«Что бы вам хотелось, чтобы я сказала? Я не изучала это дело, не читала книг и отчетов. Я рассказываю только о том, что видела и слышала, и все».
Кому верить? Чему верить?
1. О каком сохранившемся "музее советских зверств" могла идти речь во время визита Берлинга в Катынский лес в конце января-начале февраля 1944 года, уже даже после завершения работы советской комиссии под руководством Бурденко?
2. И тем более о каких документальных материалах немецкой эксгумации ("бумаги, письма, ... фотографии" жертв), размещенных в этом мифическом музее, могла идти речь? Немцы не оставили в Катыни никаких найденных ими на трупах документов (кроме газет), все найденные документы были запакованы в ящики и увезены, большая часть материалов позже была уничтожена (см. 5 том материалов комиссии Мэддена, стр. 1511 и далее). В конце концов, в материалах комиссии Бурденко нет никаких упоминаний об оставленных немцами эксгумированных документах. А если бы таковые и нашлись, их не оставили бы в "музее советских зверств", а привлекли бы к делу как вещдоки, и делегация Берлинга их уже в музее не застала бы. То есть этот момент в "показаниях" Девилье невероятен вдвойне - документы не оставили бы ни немецкие, ни советские власти.
3. О каком алфавитном списке жертв может идти речь? В немецком эксгумационном списке жертвы расположены не по алфавиту, а по номерам. Иначе и быть не могло - значительную часть трупов идентифицировать не удалось. С чего бы тогда список в мифическом музее был бы алфавитным?
4. Каким образом немцы могли составить алфавитный список жертв, "разделенный на равные промежутки по принципу принадлежности к одному бараку"? К какому еще бараку? В Козельском лагере? Откуда немцы узнали бы такую информацию? И зачем они стали бы применять такой принцип при составлении списка погибших? И даже если предположить, что такая информация ими была выставлена в некоем "музее", то почему они не опубликовали ее в Amtliches Material?
5. Девилье утверждает, что увидела в "музее" имя своего якобы живого на тот момент друга Збигнева Богуцкого (Zbigniew Bogucki). Вот написание его фамилии в цитате из Девилье, приведенной в одном из изданий книги Деко (спасибо Google Books; заметьте, что имя "Zbigniew" почему-то написано с "v"):
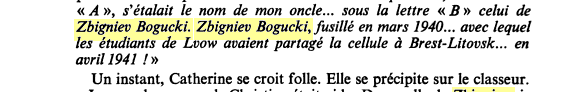
Однако никакой Збигнев Богуцкий в немецком эксгумационном списке 1943 года не значится. Как же его имя могло присутствовать в "музее советских жертв" в Катыни в 1944 году? (Для справки: Zbigniew Bogucki вообще не значится в базе данных репрессированных польской "Карты" и неизвестно существовал ли такой человек на самом деле).
6. Девилье якобы говорила с местными жителями, которые якобы передали ей следующие слова пьяных членов 537-го полка связи:Связной полк 537? Чушь, на самом деле они принадлежат к группе десанта «айнзатц-коммандо» СС II, а сейчас прибыли с Украины, где уничтожили всех киевских евреев. А кого же они убивают здесь? Тоже евреев? Солдаты смеялись. О нет, более тонкая, ручная работа, с револьвером... Лучше, много лучше.
Отсюда вопрос: зачем это айнзацкомандам маскироваться под кого-либо, и особенно под вполне реальный полк связи, и какие аналогичные примеры маскировки можно привести?
7. В Смоленской области действовала только айнзацгруппа Б, в которую входили зондеркоманды 7а и 7б, айнзацкоманды 8 и 9 и "форкоммандо Москау" (см. например, Y.Arad, S.Krakowski, S.Spector (eds.), The Einsatzgruppen Reports: Selections from the Dispatches of the Nazi Death Squads' Campaign Against the Jews July 1941-January 1943, 1989, p. x). Айнзацкоманда 2 входила в айнзацгруппу А, айнзацкоманды 11а и 11б - в айнзацгруппу Д.
8. За уничтожение евреев в Киеве была ответственна зондеркоманда 4а под руководством Пауля Блобеля, которая входила в айнзацгруппу Ц (ibid., pp. xi, 168).
9. Если бы тысячи поляков были уничтожены айнзацгруппами (именно айнзацгруппы было бы естественно привлечь к этому делу, а вовсе не строительный батальон или полк связи), сведения об этом безусловно появились бы в подробных регулярных отчетах этих бригад смерти (т.н. Ereignismeldungen UdSSR), которые сохранились за интересующий нас период в полном объеме, и затем были бы использованы советской стороной как неопровержимое документальное доказательство вины немцев. Всего было создано 195 пронумерованных отчетов айнзацгрупп с 23.6.1941 по 24.4.1942. Из них до нас не дошел только отчет номер 158 от января 1942 года (Ronald Headland, Messages of Murder: a study of the reports of the Einsatzgruppen of the Security Police and the Security Service, 1941-1943, Fairleigh Dickinson Univ. Press, 1992, pp. 217-221). В отчетах подробно рассказывается об уничтожении евреев, коммунистов, партизан, но ни в одном отчете нет никакого упоминания об уничтожении поляков около Смоленска. Таким образом, информация, якобы услышанная Девилье от местных жителей, неверна от первого до последнего слова.
10. Деко сообщает, что с крестьянами Девилье общалась "во время ее пребывания в Катыни", при этом единственный случай пребывания он приводит для начала 1944 года. В то же время он цитирует саму Девилье:Об этом рассказывали крестьяне, пережившие ужасы немецких лагерей и вернувшиеся домой после войны.
Более того, если это рассказали Девилье именно крестьяне в начале 1944 года, то почему они то же самое не рассказали комиссии Бурденко, которая так и опубликовала свой доклад с упоминанием мифического "строительного батальона 537"? Хотя не исключаю, что здесь что-то напутал в пересказе сам Деко.
В любом случае уже вполне очевидно, что доказывать свидетельство Девилье может лишь ее пристрастие к фантазированию (либо наличие у нее какого-нибудь душевного расстройства). Историческим доказательством эта байка служить не может, что должен был понять Ален Деко, которого все же называют историком.
Как и можно было ожидать, "катынские ревизионисты" приняли показания Девилье за чистую монету. Сергей Стрыгин и Владислав Швед в Тайне Катыни (М.:2007, с. 61) пересказывают данные из книги Деко, при этом фальсифицируя фамилию якобы друга Девилье Богуцкого, которого они называют Богуславским (Збигнев Богуславский, впрочем, тоже не значится в немецком списке):В Катыни в списках расстрелянных весной 1940 г. К. Девилье увидела фамилию не только дяди Христиана, но и своего друга Збигнева Богуславского... Позднее выяснилось, что в Козельском лагере в 1940 г. содержался еще один Збигнев Богуславский, полный тезка друга К. Девилье... Далее А. Деко пишет, что Катерина, "вернувшись в Польшу, встретила фронтового товарища (З. Богуславского)...".
Цитируют они и якобы показания крестьян (с.100-101):Вернемся к известному нам «лейтенанту Красной Армии» Катарине Девилье. А. Деко отмечает, что во время ее пребывания в Катыни у нее было большое преимущество перед западными журналистами: она могла непосредственно, без контроля органов НКВД, общаться с населением. Местные жители рассказали Катерине, что немцы из 537 полка связи, дислоцированные в Катыни, «по пьянке многое рассказывали». В частности, они говорили: «Связной полк 537? Чушь. На самом деле они принадлежат к группе десанта «айнзатц-коммандо» ССII, а сейчас они прибыли с Украины, где уничтожили всех киевских евреев. А кого же они убивают здесь? Тоже евреев? Солдаты смеялись. О нет, более тонкая, ручная работа с револьвером....» (Деко. «Великие загадки...». С 273-274).
Как видим, авторов абсолютно не смутили приведенные выше вопросы. А последний "аргумент" умиляет особенно. Напомню ключевой момент из Деко:
Местные жители даже назвали К. Девилье имена некоторых военнослужащих, многие из которых впоследствии звучали на Нюрнбергском трибунале. А. Деко был хорошо осведомлен относительно провального для советской стороны допроса 1 июля 1946 г. в Нюрнберге командира 537 полка войск связи Ф. Аренса (Деко. Великие загадки... С. 266). Однако, ссылаясь на свидетельство К. Девилье, он тем не менее назвал этот полк в связи с Катынским делом. Случайно ли? Возможно, потому что, по мнению Деко, 537-й полк войск связи служил прикрытием, как утверждали в немецкие солдаты, для «айнзатц-командо» СС II?
Во время передачи «Трибуна истории» на французском телевидении К. Девилье подверглась перекрестному допросу в прямом эфире со стороны ведущего французского специалиста по вопросам Центральной Европы Г. Монфора и бывшего польского военнопленного в советских лагерях, майора армии Андерса Ю. Чапского. Она вела себя очень уверенно и достойно выдержала это испытание, убедительно ответив на все вопросы (Деко. «Великие загадки...». С. 304).Если Кжепский пытался поймать ее на несоответствии ее показаний и доказанных фактов, она не терялась. С легким польским акцентом и спокойной уверенностью она отвечала:
То есть ее ответом на вопросы, ставящие ее свидетельство под сомнение, было тупое заявление о своей правоте. Типа: "Что вы тут лезете со своими фактами, кто тут очевидец - я или вы?!". И это Швед и Стрыгин называют "убедительным" ответом?
«Что бы вам хотелось, чтобы я сказала? Я не изучала это дело, не читала книг и отчетов. Я рассказываю только о том, что видела и слышала, и все».
Впрочем, Стрыгин и Швед заверяют нас, что:Свидетельство К. Девилье заслуживает тщательного расследования, если учесть, что А. Деко также упомянул показания берлинского булочника Пауля Бредоу, служившего осенью 1941 года под Смоленском связистом при штабе группы армий «Центр». П. Бредоу в 1958 г. в Варшаве, во время процесса над Э. Кохом, одним из нацистских палачей, под присягой заявил: «Я видел своими глазами, как польские офицеры тянули телефонный кабель между Смоленском и Катынью». Во время эксгумации в 1943 г. он «сразу узнал униформу, в которую были одеты польские офицеры осенью 1941 г. » (Деко. «Великие загадки...». С. 275).
Начнем с того, что звали Пауля не "Бредоу" (так могли бы звать англичанина), а Бредлов (ср. S. Orłowski, R. Ostrowicz, Erich Koch przed polskim sądem, 1959, s. 170, "Co widział i słyszał świadek Paul Bredlow").
П. Бредоу также сообщил, что он лично слышал телефонные переговоры между Кохом и командующим группой армий «Центр» фон Боком о перевозке поляков на Восток, где их расстреливали. Известно, что связь для штаба группы армий «Центр» обеспечивал тот самый 537 полк связи, в причастность которого к расстрелу польских военнопленных не поверили в Нюрнберге («Эрих Кох перед польским судом». С. 161).
Если бы авторы покопали бы хоть немного глубже, они могли бы найти, например, вот эту новостную заметку из Hamburger Abendblatt (6-7.12.1958, S.2):
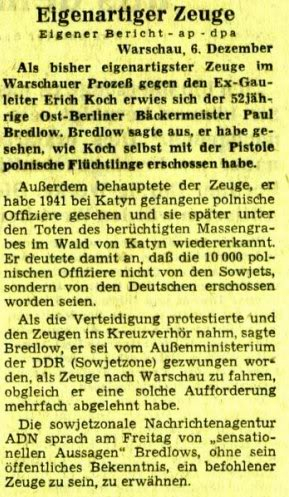
Перевод:Странный свидетель
Итак, Бредлов - свидетель из коммунистической ГДР, которого против его воли привезли выступать свидетелем в коммунистическую Польшу. Понятно, что в обеих диктатурах советская "версия" насаждалась силой, поэтому Бредлов, служивший ранее в 537 полку связи, был под особым давлением (потому что именно с этим полком советская сторона связывала катынское дело), а свидетельство, прямо опровергающее немецкую вину, дорого бы ему обошлось.
Наш отчет - ap - dpa
Варшава, 6 декабря
На данный момент самым странным свидетелем в варшавском процессе против бывшего гауляйтера Эриха Коха стал 52-летний булочник из Восточного Берлина Пауль Бредлов. Бредлов заявил, что он видел, как Кох лично расстреливал из пистолета польских беженцев.
К тому же свидетель сообщил, что он видел в 1941 году в Катыни пленных польских офицеров, а позже узнал их среди мертвецов в известных массовых захоронениях в Катынском лесу. Этим он указал на то, что 10000 польских офицеров были расстреляны не Советами, а немцами.
Когда защита запротестовала и стала подвергать его перекрестному допросу, Бредлов сказал, что его заставило приехать свидетелем в Варшаву Министерство иностранных дел ГДР (Советская зона), хотя сам он несколько раз отказывался от таких приглашений.
Новостное агентство советской зоны ADN в пятницу говорило о "сенсационном свидетельстве" Бредлова, не упоминая о его публичном признании в том что он - недобровольный свидетель.
На этом вопрос можно было бы закрыть, но обратимся к стенограмме процесса. Бредлов свидетельствовал на протяжении трех дней (с 3 по 5 декабря 1958 г.). Ограничимся перечислением следующих моментов (в реальности проблем еще больше).
1. Бредлов утверждал, что якобы слышал разговоры Коха с гауляйтером Кубе и что "Кубе был подчиненным рейхскомиссара Коха" (якобы "это часто слышалось из разговоров, которые велись"), что, естественно, было не так - генеральный комиссариат "Белорутения" к Коху отношения не имел.
2. Бредлов утверждал, что Кубе играл роковую роль в решении судьбы польских военнопленных под Смоленском ("провел несколько разговоров о том, что их нельзя выслать, потому что это несколько тысяч человек и есть трудности с транспортом", "как главные участники, были упомянуты фамилии Коха и Кубе, которые были названы как те, кто дал приказ на расстрел"). Но это очевидный нонсенс, поскольку Смоленск Кубе не подчинялся, вообще не был частью рейхскомиссариата "Остланд" и был под управлением военной администрации.
3. Бредлов утверждал, что эксперты международной комиссии, созванной немцами (в частности, не участвовавшие на самом деле в комиссии "профессора из Норвегии, из Швеции") "подтвердили, что смерть должна была наступить не раньше осени 1941 года" и "писали такие статьи в газеты и отчеты". Очередной очевидный нонсенс, не вписывающийся даже в советскую пропаганду и противоречащий самому себе.
4. Бредлов утверждал, что написал письмо, изобличающее Коха, в польское посольство в Берлине и был вызван в МИД ГДР, который заставил его ("в такой форме, что я не мог отказаться") поехать на процесс (сам Бредлов этого якобы не хотел: "это было совершенно далеко от меня, выступать здесь по этому делу, и до последнего момента я отказывался", "я вообще не имел намерения выступать как свидетель") и молниеносно оформил документы на поездку ("в течение нескольких часов мне дали паспорт"), при этом Бредлов заявил: "В Берлине меня не допрашивали". Что вызывает вопрос: с чего это МИД без всякого допроса, то есть минимальной проверки, посчитал Бредлова таким ценным свидетелем? Допустим, МИД ГДР сделал это по просьбе польских друзей - но они-то откуда поняли, что Бредлов такой важный свидетель, минимально не проверив его письмо?
5. Бредлов то утверждал, что "как главные участники, были упомянуты фамилии Коха и Кубе, которые были названы как те, кто дал приказ на расстрел" (очередной нонсенс, причем свидетель не потрудился сообщить, кем были упомянуты такие "сведения"), то увиливал от ответа на прямой вопрос об их вине ("Кто именно это приказал, я не знаю. Только из разговоров можно было сделать вывод, что Кубе не получил никаких возможностей для транспорта и что их оттранспортирование в тыл было отклонено по совету Кубе").
6. Во время процесса выяснилось, что по прибытии Бредлова в Польшу он был допрошен прокурором 1 декабря. Протокол этого допроса в ключевых пунктах противоречил свидетельству Бредлова на процессе. Например, сначала Бредлов утверждал, что казнь была у той стены дома, где жил Кох, а на процессе - что не может точно установить место, где была проведена казнь. Сначала Бредлов утверждал, что был так потрясен казнью, что, не дожидаясь конца, отошел; на процессе же - что был там до конца казни, а Кох повернулся после казни и вошел в дом (и именно в тот момент, когда Кох повернулся, Бредлов его узнал: "я наблюдал за казнью до конца и видел, как Кох отвернулся, и видел его лицо, и видел, как он возвращался домой").
7. Прокурор стал категорически возражать против использования этого протокола во время процесса, используя абсурдные казуистические аргументы, заявив, в частности, что противоречий между протоколом и судебными показаниями еще больше, что еще раз свидетельствует о том, что "это только информационная заметка, имеющая целью сориентировать прокуратуру, сможет ли св. Бредлов что-либо внести в дело и будут ли его показания существенными", хотя каким образом такой якобы ничего не значащий и полный ложной информации документ мог сориентировать прокуратуру - прокурор не объяснил, как не объяснил и природу противоречий, которые, таким образом, остаются доказательством сфабрикованности свидетельства Бредлова.
8. О судьбе военнопленных Бредлов заявил: "Я больше этих людей не видел". И все? Как Бредлов, состоя в 537-м полку связи и находясь в нужное время (август-сентябрь 1941 г.) в нужном месте (участок от Катыни до Смоленска, при этих самых военнопленных) не узнал о длительном расстреле его полком тысяч этих самых военнопленных хотя бы из внутриполковых разговоров?
В архиве немецкого МИД имеется переписка МИД ГДР о Бредлове. В одном недатированном документе (PA AA, M 1-A/3730, Bl. 94-95) сначала вкратце пересказывается эпизод с заявлением Бредлова о недобровольности его явки, включая, например, такой пассаж:
Председатель спросил, исходила ли инициатива выступить по этому делу от него. Свидетель ответил на этот вопрос довольно неясно, так что из этого можно было лишь заключить, что своими сообщениями он хоть и хотел способствовать установлению истины о Кохе, но как свидетель по этому делу он себя не заявлял.
Интересны наблюдения о споре вокруг протокола первоначального допроса:
Спор между защитой и прокуратурой вот уже два дня ведется по поводу того, что якобы не соответствует законодательным предписаниям тот факт, что гражданин ГДР Бредлов уже в понедельник по прибытии был допрошен прокуратурой, а в начале показаний Б. этот протокол был передан суду, но не защите. На основании постановления суда защита все же получила этот протокол и в ходе заседания в четверг после обеда заявила, что между показаниями, зафиксированными в протоколе от понедельника, и показаниями, данными во время слушаний в среду и четверг, существуют существенные различия. Прокурор попытался представить протокол от понедельника лишь как протокол с ключевыми моментами, что, однако, прозвучало не слишком убедительно и было решительно отвергнуто защитой, поскольку показания Б. от понедельника фактически обозначены как полноценный протокол.
В служебной записке Брингмана от 29.11.1958 о разговоре 27.11.1958 между тов. Копой (польским дипломатом), Белингом и Брингманом (ibid., Bl. 96) говорится, что Копа сообщил немецким коллегам, что свидетели Бредлов и Мольткау могут дать важные свидетельские показания против Коха, письма им уже высланы и 1 декабря их следует допросить в Варшаве. Немецкие товарищи пообещали содействие.
В служебной записке Штроппа от 05.12.1958 о разговоре с тов. Полудняком 04.12.1958 читаем (ibid., Bl. 100, 101):Разговор произошел по нашей инициативе, поскольку дневное заседание на процессе Коха выявило обстоятельства, которые требовали немедленного прояснения с польской стороной и не терпели отлагательств. Тов. П. выразил готовность обсудить этот вопрос со мной немедленно, несмотря на поздний час.
Я проинформировал тов. П. об основном содержании показаний свидетеля Пауля Бредлова, который прибыл из Берлина в Варшаву, чтобы дать здесь показания против Коха. В частности, я изложил, что Б. заявил: "Я прибыл сюда против своей воли". Кроме того, я сообщил, что на вопрос суда, согласился ли он выступать в качестве свидетеля, Б. ответил: "Мне это было чуждо, я до последней минуты отказывался ехать сюда, но меня строго обязали к этому, всё было улажено, я получил паспорт и поехал. Я сам не вызывался в свидетели".
Я обратил внимание тов. П. на то, что эти показания свидетеля Бр. создали крайне неприятную ситуацию, поскольку выступление этого человека наносит ущерб как нашей стороне, так и польской. Я выразил убеждение, что присутствующие западные журналисты, несомненно, растиражируют это на полную катушку. Убедиться в этом можно будет завтра, просмотрев западную прессу.
Товарищ П. сказал буквально, что это породило неприятную историю. Он немедленно, в моем присутствии, связался с директором Лободичем и проинформировал его об этом деле. После телефонного разговора тов. П. спросил меня, могу ли я предоставить ему стенограмму этого заседания. В соответствии с договоренностью с товарищем послом Хегеном, я отклонил его просьбу и пояснил, что у меня есть лишь запись в виде тезисов. Я сказал, что, по нашему мнению, было бы правильно, если бы прокуратура самостоятельно исправила сложившуюся ситуацию. Тов. П. ответил, что это и есть их мнение, и пообещал связаться с Генеральной прокуратурой еще в тот же вечер и проинформировать меня о результатах своих переговоров на следующее утро.
В ходе дальнейшего разговора товарищ П. пояснил, что посольство Польши в Берлине, разумеется, лишь содействовало даче показаний свидетелем Б. В соответствии с Договором о правовой помощи между ГДР и ПНР, Генеральная прокуратура ПНР и Генеральная прокуратура ГДР ранее провели обсуждения о том, должен ли Б. давать показания. В связи с этим я подчеркнул, что МИД ГДР имел отношение ко всему делу лишь постольку, поскольку он выдал Бр. паспорт и визу по запросу Посольства ПНР в Берлине.
В последующей беседе товарищ П. сказал, что, когда он узнал о появлении Б. в прессе, он был твердо убежден, что всё идет хорошо. Он был искренне горд, что в качестве выражения дружественных отношений между ГДР и ПНР выступил столь хороший свидетель из ГДР. Однако, получив текущую информацию, он переживает настоящее похмелье. В ответ я еще раз заявил, что сложившаяся ситуация срочно нуждается в исправлении и что, по нашему мнению, это исправление должно быть осуществлено Генеральной прокуратурой ПНР.
В служебной записке Штроппа от 06.12.1958 о телефонном разговоре с тов. Полудняком 05.12.1958 читаем (ibid., Bl. 98):
Возвращаясь к нашему вчерашнему обсуждению показаний свидетеля Бредлова на процессе Коха, товарищ П. сообщил мне, что он разговаривал с представителем Генеральной прокуратуры, поддерживающим обвинение в этом процессе, о событиях, произошедших на дневном заседании суда 4 декабря 1958 года. Генеральная прокуратура придерживается мнения, что показания свидетеля имеют крайне важное значение для подкрепления обвинительного заключения. Утверждения Бр., что он прибыл в Варшаву против своей воли, не имеют значения, поскольку процессуальные нормы допускают возможность принуждения свидетеля к даче показаний по распоряжению судебных органов, даже вопреки его желанию. На моё возражение о том, что, даже если это было бы так, показания Бр. всё же сводятся к тому, что его вынудили поехать в Варшаву либо польское посольство в Берлине, либо МИД ГДР, товарищ П. отреагировал вопросом, прозвучали ли эти слова вообще. Я пояснил ему, что на том заседании, когда Бр. говорил о давлении, оказанном на него с целью принудить к поездке в Варшаву, он назвал лишь две инстанции: польское посольство в Берлине и МИД. Товарищ П. выразил удивление по поводу этого разъяснения и сделал вид, будто ему это неизвестно. Однако я сообщил ему ровно те же самые сведения в предыдущий вечер во время нашей беседы.
Я поинтересовался, можно ли на сегодняшнем заседании ожидать от польской Генеральной прокуратуры желаемого нами исправления ситуации. Товарищ П. не смог дать мне никакой информации по этому поводу, так как он якобы об этом не спрашивал.
В недатированной (или недатируемой по электронной копии) записи замминистра Шваба значится (ibid., Bl. 104):
Мы здесь установили, что данный свидетель в польском посольстве в Берлине сам вызвался в качестве свидетеля против Коха. Мы по просьбе местного посольства выдали выездную визу, и это всё, что было сделано с немецкой стороны в этом вопросе. Таким образом, человек сам явился в польское посольство, и нет никаких причин это скрывать, если его спросят журналисты.
Если принять эту посылку, из этого следовало бы, что Бредлов соврал о ключевом моменте (о том, что он не хотел быть свидетелем, а в Польшу его заставил прилететь МИД ГДР), что само по себе сделало бы его показания сомнительными. В то же время эта записка больше похожа на попытку выработать тактику спасения лица.
Подытоживая, можно сказать, что показания Бредлова, ставшего недобровольным свидетелем при странных обстоятельствах, абсурдны и содержат грубые исторические ляпы, а его первый допрос в Варшаве противоречит его допросу во время судебного заседания. Никаких причин считать показания Бредлова достоверными просто нет.
Видимо, так же посчитал и суд. На 122 машинописных страницах приговора от 09.03.1959 (IPN BU 2586/233) Бредлов, в отличие от других свидетелей, не упоминается ни разу. Не упоминаются и эпизоды из его свидетельства. В частности, нигде не упоминается катынское дело.
"Показаниями" Девилье и Бредлова Владислав Швед размахивает как флагом при всяком удобном случае. Бредлов и Девилье упоминаются в заметках "52 вопроса о Катыни", "Ещё раз о записке Берия", Бредлов упоминается в заметках "Честный взгляд на Катынь", "Катынь. Что дальше?". При этом все время звучат обвинения в "игнорировании", "замалчивании" этих "свидетелей". Вот, например, отрывок из "Честного взгляда":Напомним, что в 1958 г. в Варшаве в ходе судебного процесса над бывшим гауляйтером Польши Э.Кохом, берлинский булочник, бывший связист 537 полка связи вермахта Пауль Бредоу, служивший осенью 1941 года под Смоленском, под присягой заявил: «Я видел своими глазами, как польские офицеры тянули телефонный кабель между Смоленском и Катынью». Во время эксгумации в 1943 г. он «сразу узнал униформу, в которую были одеты польские офицеры осенью 1941 г.».
"Этот факт" был изложен не Орловским и Островичем (которые писали лишь о якобы телефонных переговорах между Кохом и фон Боком, полностью опуская катынский эпизод), а Аленом Деко, но ладно, это мелочь. Тут интереснее другое - Швед уже называет Бредлова "бывшим связистом 537 полка связи вермахта". Постойте-ка, г-н Швед, а разве 537-й полк связи не был прикрытием для некой мифической айнзацкоманды, согласно Девилье? И как же Бредлов умолчал о таком "факте"? Разберитесь уже в своих "свидетелях"!
Этот факт был изложен в книге польских журналистов С.Орловского и Р.Островича «Эрих Кох перед польским судом». Но в современной Польше об этом предпочитают не вспоминать, так как якобы в «народной» Польше «правда» о Катыни была не возможна.
На самом деле "показания" Девилье и Бредлова представляют интерес лишь для исследователей советской дезинформации зарубежом, еще может быть для психиатров. Из вышеизложенного уже должно быть очевидно, почему историки не воспринимают их всерьез. Впрочем, стоит упомянуть, что "показания" Девилье были разобраны еще в 1965 году Здиславом Шталем (Zdzislaw Stahl, "Katynskie echa w 25-lecie zbrodni", Dziennik Polski i Dziennik Zolnierza, nr. 159, Londyn, 6.7.1965; перепечатано в Katyn. Wybor publicystyki 1943-1988 i Lista Katynska, Londyn Polonia, 1988, s. 134, 135).
Так что Швед, мягко скажем, опоздал со своими сенсациями.
Фальшивка "рапорт Стаглецкера"
О том, что после оккупации немцами Смоленска, в его окрестностях находились польские офицеры, свидетельствует рапорт командира айнзатцгруппы при штабе группы армий «Центр» Франца Стаглецкера на имя начальника Главного управления имперской безопасности Рейнхарда Гейдриха о действиях группы за период с августа по декабрь 1941 г, в котором указывается: «... Выполнил главный приказ, отданный моей группе,- очистил Смоленск и его окрестности от врагов рейха - большевиков, евреев и польских офицеров» (оригинал хранится в архиве нью-йоркского «Идиш сайнтифик инститьют», копия - в архиве Союза антифашистских борцов в Праге).Ситуация совершенно анекдотическая.
Во-первых, стыдно людям, пишущим на такие темы, не знать, что по-русски надо писать не "Стаглецкер", а "Шталекер" (Stahlecker).
Во-вторых, стыдно людям, претендующим на серьезность, не знать, что Франц Вальтер Шталекер руководил айнзацгруппой А и зверствовал в интересующий нас период в Прибалтике, а значит в Смоленске не убивал ни евреев, ни большевиков, ни польских офицеров (см., например, книгу The Einsatzgruppen Reports, указанную выше). Айнзацгруппой Б, которая действовала в Смоленске, в интересующий нас период руководили Артур Небе и Эрих Науманн.
В-третьих, стыдно не знать, что сводный отчет (Gesamtbericht) Шталекера за время с начала "работы" айнзацгруппы А по 15 октября 1941 года (то есть как раз интересующий нас период) - документ весьма известный, приводился как доказательство в Нюрнберге (документ L-180/USA-276, опубликован в Trial of the major war criminals before the International Military Tribunal, 1949, vol. XXXVII, pp. 670-717; подлинник есть в РГВА ф.500, оп.4, д.93). Стоит ли говорить, что данная информация в подлинном докладе не фигурирует?
Существует также сводный отчет Шталекера с 16 октября 1941 года по 31 января 1942 года. В нюрнбергских материалах он опубликован лишь частично (документ PS-2273, Trial ... op. cit, vol. XXX, pp. 71-80), однако подлинник есть в Российском Государственном Военном Архиве (ф.500, оп.4, д.92), а копия - в United States Holocaust Memorial Museum. Г-да Швед и Стрыгин могут пойти в РГВА и убедиться, что во втором отчете тоже нет ни слова об убийстве польских офицеров под Смоленском.
Более того, как уже было показано раньше, об убийстве поляков должны были бы сообщать не только сводные, но и рутинные отчеты айнзацгрупп, но они об этом молчат.
В-четвертых, чтобы сообразить, что если бы такой документ существовал, то советская сторона его непременно использовала бы, не надо быть гением - надо просто иметь мало-мальски функционирующий головной мозг.
И вот эти люди хотят, чтобы историки воспринимали их всерьез?
Замечу, что в данном случае Стрыгин и Швед не ссылаются вообще ни на один источник. Первоисточником для них мог послужить пресловутый Виктор Илюхин. Вот цитата из его статьи "Катынское дело по Геббельсу":
В печати были ссылки на рапорт начальника «Айнзатцгруппы "Б"» при штабе группы армий «Центр» Франца Стаглецкера на имя Гейдриха о действиях группы за период с августа по декабрь 1941 г., где среди прочего указывается: «...Выполнил главный приказ, отданный моей группе, – очистил Смоленск и его окрестности от врагов рейха – большевиков, евреев и польских офицеров». Оригинал документа хранится в архиве нью-йоркского «Идиш сайнтифик инститьют», копия есть в архиве Союза антифашистских борцов в Праге.Утверждение Илюхина еще более потешно - он называет наименование айнзацгруппы - "Б".
А вот комментарий Илюхина порталу km.ru (23.11.2008):
Я могу сказать: есть рапорт немецкого офицера Стаглецкера, командующего особой группой. За войсками же шли специальные команды, которые наводили свой «порядок», расстреливая коммунистов, евреев и так далее. Так вот, Гейдриху (начальник Главного управления имперской безопасности. – Прим. KM.RU) Стаглецкер писал: «Я выполнил тот приказ, который поставлен был передо мной: я очистил Смоленск и окрестности от евреев, большевиков и поляков». Кроме того, есть ведь очень много свидетелей, которые были очевидцами всего того, что произошло. Это сейчас на доказательства, которые ранее представляла советская сторона, никто не хочет обращать внимания.Но, собственно, не так важно кто именно первым вбросил эту нелепую фальшивку. Важно то, что ее бездумно, как попугаи, используют видные "катынские ревизионисты".
Вильгельм Шнайдер
Первое - свидетельство Вильгельма Шнайдера. В приложении к Тайне Катыни оно приведено полностью (с. 481-485), и вот как его обыгрывают Швед и Стрыгин в основном тексте (с. 102):
Интерес представляют показания, которые, немецкий гражданин Вильгельм Гауль Шнейдер 5 июня 1947 г. дал капитану Б. Ахту в г. Бамберге, в американской зоне оккупации Германии. Шнейдер заявил, что во время пребывания в следственной тюрьме «Tegel» зимой 1941/42 г. он находился в одной камере с немецким унтер-офицером, служившим в полку «Regiment Grossdeutschland», который использовался в карательных целях. Этот унтер-офицер был обвинен в подрыве боевого духа народа, или пораженчестве и приговорен к смерти.Однако налицо лишь бездумное цитирование источников без какой-либо попытки анализа.
Он рассказал Шнейдеру, что «поздней осенью 1941 г., точнее в октябре этого года, его полк совершил массовое убийство более десяти тысяч польских офицеров в лесу, который, как он указал, находится под Катынью. Офицеры были доставлены в поездах из лагерей для военнопленных, из каких - я не знаю, ибо он упоминал лишь, что их доставляли из тыла. Это убийство происходило в течение нескольких дней, после чего солдаты этого полка закопали трупы» (Архив внешней политики Российской Федерации. Фонд 07, опись 30а, папка 20, дело 13, л. 23.). Вспомним дневник польского офицера, который был опубликован в испанской газете «АВЦ». Совпадение налицо.
1. В письме от 2.4.1947 Шнайдер писал:
Я имею возможность сообщить Министерству обстоятельные данные о том, какой немецкий полк произвел убийство польских офицеров в Катынском лесу. Это не был разведывательный полк (Heeresnachrichten) 537.Но если убийство совершил не полк или батальон 537, значит свидетели из доклада Бурденко врали. Более того, показания Шнайдера абсолютно не состыкуются и с остальными "свидетелями" Стрыгина и Шведа (см. выше и ниже).
2. Абсурдно полагать, что элитному полку вермахта дали бы задание в перерыве между тяжелыми боями казнить несколько тысяч польских офицеров, когда этим должны были заниматься орудовавшие в Смоленской области палачи из айнзацгруппы Б.
3. Согласно показаниям советских свидетелей в докладе комиссии Бурденко, к октябрю абсолютное большинство поляков было уничтожено. Более того, казни якобы проходили в течение как минимум двух месяцев, может даже больше - в показаниях же Шнайдера всех убивают за несколько дней.
4. Согласно показаниям Шнайдера, поляков привозили на поездах ("их доставляли из тыла" - откуда?). Согласно советскому докладу, лагеря О.Н. были захвачены вместе с поляками, часть поляков разбежалась, их находили и казнили. Ни о каких поездах не упоминается.
5. Кроме показаний Шнайдера не существует никаких свидетельских или документальных сведений, которые свидетельствовали бы о том, что в указанный период "Великая Германия" находилась под Смоленском сколь-нибудь длительное время или вообще имела какое-либо отношение к катынскому преступлению.
Врет либо Шнайдер, либо его источник. Но есть все основания полагать, что врет именно Шнайдер, и что никакого источника не было. Дело в том, что его ловили на вранье и по другому поводу. Немецкий журналист Гюнтер Пайс, расследовавший обстоятельства неудачного покушения на Гитлера Георгом Эльзером в 1939 году сообщил о Шнайдере следующее (Guenter Peis, "Zieh' dich aus, Georg Elser!", Bild am Sonntag; за полный текст цитат я благодарен Гансу Ульриху Коху, сотруднику Georg-Elser-Arbeitskreis Heidenheim):
[номер газеты от 8.11.1959] Вильгельм Шнайдер из Бамберга, бывший член польского подпольного движения, заявил под присягой, что покушение планировалось и должно было быть осуществлено его организацией в сотрудничестве с лондонским бюро СДПГ в изгнании и с британскими службами.
В более длительной беседе Вильгельм Шнайдер не смог привести доказательств в пользу такого утверждения.
[номер газеты от 27.12.1959] Вильгельм Шнайдер из Бамберга в прошлом году подготовил аффидевит [eine eidesstattliche Versicherung] о том, что покушение планировалось и должно было быть осуществлено его организацией в сотрудничестве с лондонским бюро СДПГ в изгнании и с британскими службами.
В более длительной беседе Вильгельм Шнайдер не смог привести доказательств в пользу такого утверждения.
Он даже не смог вспомнить того, в какой колонне была помещена адская машина. По его данным, бомба была смонтирована в колонне 7 ноября 1939 года в 12 часов дня.
То есть в то время, когда в зале Бюргерброй-Келлер участники противовоздушных учений ели свой обед.
На самом деле Эльзер установил бомбу в колонну ночью, когда в пивной никого не было. К тому же на основании тщательного анализа свидетельских показаний и документальных материалов было достоверно установлено, что Эльзер действовал в одиночку (см. Anton Hoch, "Das Attentat auf Hitler im Muenchner Buergerbraeukeller 1939", Vierteljahrshefte fuer Zeitgeschichte, 1969, Heft 4, S. 383-413). Таким образом, Вильгельм Шнайдер - серийный, патологический лжесвидетель. В "52 вопросах" Швед негодует - почему, мол "игнорируется" свидетельство Шнейдера. Да вот именно поэтому.
Другим таким лжесвидетелем был некий Вацлав Пых, показания которого Сергей Стрыгин обнаружил в АВП РФ. В архиве хранится перевод, датированный началом 1953 года, длинного заявления, в котором приводятся и якобы подробности о катынских событиях. Оригинал, находящийся в пятитомном агентурном деле Пыха датирован 06.04.1952 (IPN Lu 003/567 t. 3, s. 228-252; заявление от 31.03.1952 с аналогичным содержанием, полностью посвященное катынскому делу, см. в IPN Lu 003/567 t. 4, s. 130-135, 139-141 - тут, однако, якобы посещенный Пыхом катынский лагерь называется "№ 1-ОН", см. л. 131; благодарю К. Коноплянко за доступ к материалам агентурного дела Пыха).
Текст этот был переправлен советской делегации в Нью-Йорке. В свидетельстве Пых признается:
После окончания организации лагеря в Радзивиллове, меня вызвали в НКВД, где мне сообщили, что обо мне собраны все сведения, на основании которых нет препятствий тому, чтобы я работал в качестве сотрудника НКВД, разумеется, если я на это согласен.
В принципе, на этом с Пыхом можно было бы и закончить. Но ради интереса давайте посмотрим, какие байки наплел этот агент НКВД (который позже стал и агентом польских спецслужб под именем "Тень"), и как его используют "катынские ревизионисты".
Я согласился и в мае 1940 г. был внесен в список секретных сотрудников НКВД, взяв себе псевдоним "СЕМП".
Для начала ключевой момент: первоначально в заявлениях Пыха версия о посещении им лагеря не упоминается. В приложении приводятся соответствующие документы. Достаточно упомянуть, что свой плен в СССР Пых описывает в письме президенту Польши от 10.01.1948, автобиографии от 19.04.1948, донесении от 10.08.1948, письме в Управление общественной безопасности в Люблине от 14.12.1949, записке вероятно от декабря 1949 г. Ни в одном из этих документов нет ни намека на катынские события, являвшиеся бы одним из самых важных элементов повествования, особенно когда речь шла о документах, где этот плен описывается относительно подробно. При этом Пых даже подчеркивает, что "отправился в СССР, потому что верил, что только с этой стороны придёт освобождение мира от гитлеровского кошмара", но самый очевидный пример этого кошмара, свидетелем которого якобы был он сам, почему-то не приводит.
Разрабатывать катынскую тему Пых начал в 1952 г., по-видимому, в марте, в связи с деятельностью комитета Мэддена.
Так, 06.03.1952 Пых писал в письме в радиопередачу Fala 49 (IPN Lu 003/567 t. 4, s. 85; T. Wolsza, "Konfabulacje Wacława Pycha w sprawie zbrodni katyńskiej (1952 rok)", Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały, 2011, t. 10, s. 15-16; в статье Вольши некорректно указаны архивные шифры):
Эта позорная ложь возмущает меня тем более, что я точно знаю относительно катынского дела, я знаю, что там произошло, как это произошло.
Я разговаривал с людьми из этих лагерей незадолго до того, как они были захвачены нацистами.
Этим и ограничивается "содержательная" часть письма. Понятно, что это не может быть описанием его пребывания в лагере "2-ОН". Это не повествование человека, который не только "разговаривал" с такими людьми до их захвата, а якобы видел их в лагере, присутствовал при захвате, жил вместе с ними после захвата, был свидетелем их вывоза на расстрел и, наконец, сам был почти расстрелян.
Сохранился ответ Пыху от 07.03.1952 от партийной газеты Sztandar Ludu, где выражалась готовность выслушать информацию Пыха о катынском преступлении, то есть незадолго до ответа Пых обращался в редакцию газеты с соответствующим письмом (IPN Lu 003/567 t. 4, s. 128).
А 24.03.1952 Пых пишет пространное донесение "О деле Катыни - его начале и конце" (фрагмент впервые приведен в Wolsza, op. cit., s. 16; Вольша ошибочно называет это донесение письмом в вышеуказанную газету, на что нет никаких указаний; донесение подписано агентурным псевдонимом "Тень"; донесение ошибочно датировано Вольшей по дате машинописной расшифровки). В донесении еще раз подробно рассказывается история нахождения Пыха в советском плену, в этот раз с ударением на разоблачение немецко-англосаксонской катынской провокации, но ни словом не упоминается якобы нахождение Пыха в одном из катынских лагерей и его свидетельство о расстреле:
Однако всё чаще случалось, что жизнь, состоящая из дурных развлечений, наскучивала этим людям, состояние праздности и лени тяготило их все сильнее, и в таких случаях эти солдаты настойчиво просили перевести их в трудовые лагеря, и согласно их просьбам они переводились.
Подобные обращения имели место в 1940 и 1941 годах, особенно в 1941 году было очень много переводов из Старобельска в наши рабочие лагеря - подофицеров и младших офицеров, а даже, как позже оказалось, нескольких офицеров.
Их фамилии я постараюсь собрать от свидетелей, указанных ниже, и предоставлю.
Наибольшее число таких переводов из лагерей Старобельска, Кривого Рога, Смоленска и подмосковных лагерей было с весны 1941 года до начала июня 1941 года.
Будучи комендантом и организатором лагерей в Захорцах, Радзивиллове, Сытне, Родатычах, Янове, Скнилове и Старобельске, я принимал этих людей, вел их учет, организовывал их в соответствующие подразделения, потому представленные мной факты верны и достоверны.
Достоверность этих фактов могут подтвердить граждане: [...] - их нужно только умело найти и побудить сказать правду, и они подтвердят мои слова и представят много интересных доказательств, о которых я не знаю. К тому же на основании этих данных могу смело утверждать, что ложью является то, что польские офицеры были массово убиты в 1940 году в Катыни, если установлено, что в 1941 году до июня они ещё находились в Старобельске.
Ложным является утверждение враждебной пропаганды, будто лагерь в Катыни насчитывал 14 000 офицеров, так как каждому поляку известно, что лагеря в СССР не насчитывали больше 250–1500 человек, на что имеются доказательства и что могут подтвердить все поляки, которые были в СССР и которые в настоящее время находятся в стране [Польше - С. Р.].
22-6-1941 года гитлеровская Германия напала на Советский Союз - рабочие лагеря были эвакуированы вглубь СССР [...]
Были случаи побега с нашей стороны - этих людей не преследовали, на вопрос, почему они это делают, энкавэдисты отвечали: видимо, хотят идти к Гитлеру - пусть идут, наверняка, когда его встретят, пожалеют, что ушли, а нам, братья, такие люди не нужны.
Такое поведение советских солдат наносит решительный удар по гитлеровской пропаганде, а теперь - англосаксонской, обвиняющей Советский Союз в преступлениях в Катыни.
В августе 1941 года мы прибыли в лагеря в Старобельске, и здесь я узнал, что польские офицеры выехали незадолго до нас в лагеря под Смоленском, под Козельском и другие, а Старобельск предназначался для тех, кто будет строить аэродром для тяжёлых бомбардировщиков.
В Старобельске я и указанные мною знакомые повторно убедились, что польские офицеры ещё весной 1941 года находились там, мы установили, что сведения об их образе жизни были достоверны.
Строя вышеупомянутый аэродром, я разговаривал с солдатами, унтер-офицерами и офицерами, прибывшими со всех лагерей, в том числе из лагерей под Катынью, и из этих разговоров я также узнал, что под Смоленском, около Катыни, ещё находятся польские офицеры, а солдаты прибудут к нам, тогда как офицеры поедут на сборный офицерский пункт.
В октябре 1941 года мы отправились в Тоцкое с целью организации польской армии и я установил, что в это Тоцкое прибыло очень много офицеров, больше, чем было необходимо для укомплектования штатных должностей.
Таким образом, вражеская пропаганда здесь также получает удар, потому что совершенно невозможно поверить, что русские истребили польских офицеров в Катыни, оставив в живых офицеров в других лагерях, и то таких ожесточённых врагов Советского Союза, как генерал Токажевский, Андерс, полковник Окулицкий и многие-многие другие.
Сегодня, спустя около десяти лет, я забыл многие факты, забыл множество фамилий, имеющих, несомненно, сегодня большое значение для дела, но никто тогда не предполагал, что англосаксы способны на такую макабрическую подлость, чтобы обвинять Геройский Советский Союз в убийстве в Катыни; независимо от этого, я считаю, что после надлежащей организации дела и подготовки свидетелей можно нанести этой злобной пропаганде решающий и окончательный удар.
Тут важны не столько искажения базовых фактов (вроде утверждения, что в лагерях не могло быть более 1000 человек; "соломенного чучела" о якобы 14000 офицерах в "лагере в Катыни", чего никто никогда не утверждал; еще одного соломенного чучела об убийстве вообще всех офицеров - естественно, оставались как минимум офицеры из Литвы и Латвии, так что само присутствие где-то офицеров ничего не доказывает и не опровергает), сколько тот факт, что все выводы о катынском преступлении тут делаются исключительно на основании разного рода "аргументов" (от поведения чекистов, от наличия офицеров, от чужих сообщений об офицерах под Катынью), а не на основании собственного опыта в Козьих Горах. Между "совершенно невозможно поверить, потому что ..." и "я знаю, потому что все это видел и пережил" - пропасть.
Ну и, стоит повториться, в этом подробном донесении нет вообще ни следа посещения Пыхом одного из катынских лагерей, будь то "1-ОН" из сообщения от 31 марта или "2-ОН" из сообщения от 6 апреля.
Более того, в оформленном как доклад о заявлении Пыха документе от 25.03.1952 имеется следующее добавление:добавляю, что свидетелем этого может быть гражданин Стжалковский, который в настоящее время работает служащим в Центральной Металлургической конторе в Варшаве, так как он был пленником лагеря Старобельск и может сообщить факт[ы], а также фамилии пленных в Катыни. Во время моего прибытия из лагеря в лагеря в Старобельске нам говорили советские солдаты, что вскоре в лагерь Старобельск прибудет около 5 тысяч польских офицеров из лагерей, размещённых около Смоленска. Больше фактов и фамилий по делу Катыни я не знаю, однако постараюсь установить контакты со знакомыми людьми, с которыми я находился в лагере, и в проведённых с ними беседах установлю дальнейшие факты, а также персональных свидетелей по этому делу.
Вполне красноречиво.
Из всего этого уже следует, что Пых просто придумал историю о посещении им лагеря "2-ОН" (или "1-ОН"). Причем мы знаем, что это произошло между 23 или 24 марта (23 - потому что эта дата изначально стояла в донесении и была исправлена Пыхом) и 31 марта (как указано выше).
Это уже второй раз, когда можно было бы сказать, что мы завершаем разбор Пыха, поскольку он доказанный лжец и фантазер.
Но давайте рассмотрим и содержание его свидетельства. В нем самым важным проколом является датировка визита Пыха. В заявлении от 24 марта мы видим, что Пых в августе 1941 года еще находится в Старобельске (прибывает туда). Лишь после Старобельска в какой-то момент времени до октября 1941 года (когда он отправился в Тоцкое) Пых мог прибыть в лагерь под Смоленском. Свидетельство от 6 апреля 1952 г. (посланное в советский МИД в 1953 г.) устанавливает еще одну временную границу - в лагере "2-ОН" "пленные уже знали о советско-польском соглашении". Имеется в виду соглашение Сикорского-Майского от 30.07.1941. То есть в любом случае описаное происходило не ранее 30 июля. Но Пых говорит еще и о том, что он "забыл упомянуть чрезвычайно важную вещь, что после прибытия в Старобельск НКВД объявил пленным амнистию, в результате чего советская администрация была заменена польской, выделенной из числа пленных. Это привело к личным счетам, в которые и я был также втянут". Указ об амнистии датируется 12 августа, то есть по логике повествования Пыха и в этом заявлении в августе он еще находится в Старобельске.
Проблема в том, что лагерь, если бы он существовал, был бы захвачен уже до 30 июля, не говоря уже об августе. Согласно "Справке о результатах предварительного расследования так называемого 'Катынского дела'" (ГАРФ, ф. 7021, оп. 114, д. 6а, л. 6) лагерь находился в 25 км на запад от Смоленска по шоссе Смоленск-Витебск. Согласно объяснению катынского отрицателя Стрыгина, жилая зона лагеря располагалась в поселке Катынь.
Согласно военному дневнику группы армий "Центр" от 25.07.1941 (BArch RH 19-II/129, Bl. 113), 8-й армейский корпус достиг линии ж/д станция Катынь - середина Купринского озера и севернее, и уже проводилось охранение севернее Купринского озера до ж/д станции Лелеквинская. То есть если бы лагерь "2-ОН" существовал, он был бы захвачен не позднее 25.07.1941. А достигнуть его, учитывая тяжелые бои, обычному человеку, "ничего не заметив", было бы невозможно и задолго до этого дня. То же касается и мифического лагеря "1-ОН", якобы находившегося поблизости (у дер. Тишино), который был бы взят примерно в то же время (а если доверять показаниям мифического коменданта этого лагеря Ветошникова, то охрана не пропускала никого в направлении лагеря ни по Витебскому, ни по Минскому шоссе уже 13 июля).
Пых, как и сообщение комиссии Бурденко, говорит о лагерях для военнопленных поляков около Смоленска в 1941 году. Однако из советских же документов нам известны все лагеря с военнопленными поляками на тот период, и среди них нет лагерей в непосредственной близости от Смоленска. То есть Пых врет.
Название лагеря - "2-ОН" (или "1-ОН") также взято из доклада Бурденко. Лагеря с такими названиями в подлинных документах НКВД и, в частности, ГУПВИ не значится.
Взято из сообщения комиссии Бурденко и имя "начальника Арнеса (или Арне)", причем прямо с ошибкой - это был Аренс, а не "Арнес". Пых практически повторяет сведения сообщения о "рабочем батальоне № 537". В сообщении комиссии Бурденко фигурировал "537-й строительный батальон". На самом деле не батальон, а полк, и не строительный (или рабочий), а полк связи. Суть тут, стоит повториться, не в самих ошибках, а в том, что они указывают на источник Пыха.
Ну и, конечно же, Аренс прибыл под Смоленск лишь во второй половине ноября 1941 года (дата регистрации его прибытия - 21.11.1941). Таким образом, Пых его там видеть никак не мог.
Пых якобы сразу подал рапорт в НКВД о катынском инциденте. А вот в чекистской "Справке о предварительном расследовании..." значится, что судьба этих военнопленных "до опубликования немцами своих сообщений по "катынскому делу" была неизвестна".
Естественно, противоречит Пых и показаниям Шнайдера.
В письме Пыха председателю Совета Министров Польши вероятно от декабря 1953 г. катынский эпизод снова полностью исчезает.
Со свидетельством Пыха все очевидно. Причем было, вероятно, очевидно и польским спецслужбистам, которые не воспользовались его пропагандистским предложением. Действительно, в агентурной характеристике 1954 г. значится:
Так, например, он написал заявление, в котором изложил немецкое преступление в Катыни, требуя при этом, чтобы ему разрешили официальное выступление или публикацию в печати его заявления, в котором он не привёл достаточных вещественных доказательств или изложил их таким образом, что можно было иметь определённые сомнения в их достоверности.
В других характеристиках значится:
Учитывая двуличную роль указанного лица, как скрытого врага, способного вести враждебную деятельность, вносится предложение взять его в активную агентурную разработку.и
В связи с этим предлагается вывести упомянутого из сети как двуличного и провокатора, который одновременно может быть использован иностранными разведывательными агентурами.
Даже Швед и Стрыгин относятся к нему с определенной настороженностью (Тайна Катыни, с. 94):Заявление В. Пыха, не считая сведений о Катыни, по своей сути является фактическим доносом на неблагонадежных поляков, служивших в армии Андерса. Оно вызывает много вопросов. Пых вернулся в Народную Польшу в декабре 1947 г., но «сдать антисоветчиков» решил лишь спустя 5 лет. Тем не менее с учетом того, что в настоящее время найдены документальные свидетельства существования лагерей особого назначения под Смоленском, заявление В. Пыха представляет интерес большим количеством указанных в нем фамилий, фактов и подробностей. Однако все они требуют тщательной проверки.
Понятно, что заявление о нахождении таких "документальных свидетельств" было фабрикацией катынских отрицателей.
Тем не менее, сетевые "ревизионисты" носятся со свидетельством Пыха по форумам. Сам Стрыгин впервые рекламировал его в Сети как содержащее "уникальную информацию об истинных обстоятельствах Катынского дела". Бывший (к счастью) депутат Савельев даже запрашивал о Пыхе Генпрокуратуру. Известный в узких кругах видеоблогер Иванов, явно не отличающийся умом и сообразительностью, поднял Пыха на знамена как свидетеля пребывания Аренса в Козьих Горах раньше ноября.
В общем, беда с этими "катынскими ревизионистами". Все, что они могут - это "наскребать по амбарам" разный маргинальный исторический мусор (лжесвидетелей, типа Девилье, Йохансена, Тартаковского, Бредлова, Пыха, Шнайдера, да фальшивки типа "рапорта Стаглецкера") и "лепить" из этого мусора свою "версию" произошедшего, закрывая глаза на отсутствие сколь-нибудь действительно достоверной информации, которая могла бы их "версию" подтвердить.
Приложения.
Приложение 1: избранные места из стенограммы процесса над Эрихом Кохом.
Источник: IPN GK 318/751. Приводятся фрагменты, посвященные двум наиболее интересным по мнению автора эпизодам: катынскому и по якобы расстрелу, в котором принимал участие Кох.[3 grudnia]
[ark. 38-38b]
SW. Jąko żołnierz armi niemieckiej, byłem przy głównej kwaterze telegrafistą. I z tego powodu miałem możność słuchąnia rozmów jakie prowadził Koch z mąrsząłkiem polowym Von Bockiem.
Z tych rozmów zorientowąłem się, że chodziło o sprowadzenie transportu z tyłów armii, głównie z tereniu Polski.
PRZEW. W jakim to było czasie?
SW. To było w końcu lipca względnie na początku sierpnia 1941 r. Polscy obywatele zostali przywiezieni i w lasach Borysową i Mińska rozstrzelani. Rozstrzelano ich pod pretekstem, że chodzi tu o kolonizację. Cały dobytek został im zabrany 1 zmagazynowany m budynku Opery w Mińsku.
PRZEW. Czy o tym świadek wie z rozmów telefonicznych?
SW. Tak.
[...]
PRZEW. Jaką funkcję pełnił gauleiter Kube?
SW. Kube był podwładnym reichskomisarza Kocha. On miał funkcję takie jak Koch. Siedziba jego była w Mińsku, gdzie sprawował zarząd cywilny.
[...]
[ark. 39-39b]
SW. Gauleiter Kube był znany jako masowy morderca. Stracił życie w roku 1943, względnie 1944, podłożono mu minę do łóżka. Gdy żołnierze niemieccy przybyli na miejsce, to natrafiliśmy na obozy oficerów polskich pozostawionych przez Rosjan. Wtenczas samochodami sprowadzaliśmy tych jeńców, po stu i oni wykopywali rowy celem położenia kabli. Było to na przestrzeni od Katynia do Smoleńska.
PRZEW. W jakim to było czasie?
SW. To było w sierpniu i wrześniu. Cdy ci polscy jeńcy u nas pracowali od nich dowiedziałem się, że oni byli w niewoli rosyjskiej od 1939 roku i myśmy ich przejęli.
PRZEW. Co się z tymi jeńcami stalo?
SW. Naprzód była mowa o tym, że oni mieli być wysłani na tyły. Gauleiter Kube odbył kilka rozmów że ich nie można odesłać bo to jest kilka tysięcy ludzi i są trudności transportowe. Ja więcej tych ludzi nie widziałem. Dopiero w roku 1942 lub 1943 w odleglości 4 kilometrów od Katynia, nie daleko od naszej kwatery rozpoczęła się ekshumacja tych trupów. Ja poznalem po ubiorze, że chodziło o tych jeńców, którzy u nas pracowali. Hitler powołał rzeczoznawców, którzy mieli te rzeczy zbadać.
PRZEW. Czy świadek groby katyńskie oglądał?
SW. Ja byłem tam obecny i sam widziałem jak rozkopywano. Wiem, że rzeczoznawcy stwierdzili iż śmierć miała nastąpić najwcześniej na jesieni 1941 r.
PRZEW. Czy świadkowi wiadomo, że z losem jeńców polskich było związane nazwisko gauleitera Kocha?
SW. Tego nie mogę powiedzieć czy istniał związek bezpośredni, bylo to jednak na terenach okupowanych. Po raz pierwszy widziałem Kocha w czasie odwrotu przez Prusy Wschodnie, myśmy byli w pobliżu miejscowości Bodenhausen.
[...]
[ark. 40-40b]
PRZEW. Czy świadek widział jakieś mordowanie ludności nie niemieckiej?
SW. Tak, widziałem. Widziałem raz jak około 10 žandarmów polowych przyprowadzili grupę około 20 osób i niektórzy z nich mieli trójkąt z napisem "Ost". Bylo to z końcem marca względnie na początku kwietnia 1945 roku. Ludzi tych zabito.
PRZEW. Gdzie ich przyprowadzano i jak ich zabijano?
SW. Oni zostali przyprowadzeni w pobliżu kwatery gdzie ja mieszkałem, było to na podwórku. Na pograniczu ogrodu ustawili w półkole i rozstrzelali. Ja widziałem jak gauleiter Koch stał w grupie żandarmów polowych, miał pistolet w ręku i sam oddawał strzały.
PRZEW. Ile strzałów oddał?
SW. Nie mogę dokładnie stwierdzić, ale musial oddać dwa albo trzy strzały.
PRZEW. Skąd pan wie, że to był Koch ?
SW. Ja osobiście dokładnie sobie zapamiętałem jego osobę i to nie mógł być kto inny jak właśnie on.
PRZEW. Ile razy widywał pan Kocha poprzednio i na jakiej przestrzeni czasu?
SW. To mogło być dwa, trzy razy.
PRZEW. Po czym pan poznał, że to był właśnie Koch?
SW. Przedewszystkim rozpoznałem go po szarym ciemnym ubraniu, a pozatym pytałem się policji polowej, kto tam został rozstrzelany i wówczas dowiedziałem się od policjanta, że byli to polscy sabotażyści i że sam Koch brał w egzekucji udział.
[...]
[ark. 43-43b]
ADW.SLIWOWSKI Czy świadek był przed dniem dzisiejszym kiedykolwiek przesłuchiwany ?
SW. Owszem. Zeznawałem o tym w Prokuraturze.
ADW.SLIWOWSKI W jakiej Prokuraturze i kiedy?
SW. Zaraz w poniedziałek gdy przyjechałem do Polski. Ambasada N.R.D. przywiozła mnie do jakiejś Prokuratury i tam byłem przesłuchiwany. To nie było w tym gmachu.
ADW.SLIWOWSKI Czy świadek sam się stawił do dyspozycji Prokuratury, czy świadek był wezwany ?
SW. U nas w prasie często się pisze o tym procesie i w związku z tym powstają różne dyskusje. Z tego dowiedziałem się, że Koch wszystko neguje i napisalem do Ambasady Polskiej w Berlinie, że jemu nie można wierzyć bo wszystko to jest kłamstwo.
ADW.SLIWOWSKI Zanim zadamy dalsze pytania, prosimy Wysoki Sąd o spowodowanie aby oskarżyciele publiczni dostarczyli protokołu, który został sporządzony. Ponieważ obrona ma interes w porównaniu zeznań świadka złożonych w dniu dzisiejszym i na poprzednim przesłuchaniu. Dlatego też bardzo proszę o udostępnienie obronie tego protokołu.
[...]
[4 grudnia]
[ark. 52]
ADW.SLIWOWSKI: Skąd świadkowi wiadomo, że Kube był podwładnym Kocha?
SWIADEK: To przecież się widziało, że on musi podlegać Reichskomisarzowi, bo najwyższę władzę ma Reichskomisarz a Reichskomisarzem był Koch. Jak byliśmy w Baranowiczach, to słyszeliśmy, że w tym okręgu gauleiterem jest Koch, a w następnym okręgu w Borysowie dowiedzieliśmy się, że gauleiterem jest Kube.
ADW.SLIWOWSKI: Mianowicie dla jakiego okręgu był Kube?
SWIADEK: Kube był w Mińsku i dla okolic Mińska i być może aż do Smoleńska. Tego dokładnie nie mogę powiedzieć.
ADW.SLIWOWSKI: Skąd świadkowi jest wiadomo, że gauleiter dla Mińska - Kube podlegał gauleiterowi dla Białegostoku Kochowi?
SWIADEK: To często słyszało się z rozmów, które byly prowadzone.
ADW.SLIWOWSKI: Czy świadek może podać bliżej źródło swoich informacji, oprócz rozmów?
SWIADEK: Ja słyszałem to z rozmów, które słyszałem zawsze kawałkami, że Kube jest podległy Kochowi, ale dokładniej nie słyszałem.
[...]
[ark. 55-56]
ADW. WEGLINSKI: Wczoraj oświadczył świadek, że sprawą ewakuacji polskich oficerów z okolic Katynia miał się zajmować Kube? Skąd świadek wie, że Kube się tą sprawą zajmował?
SWIADEK: Te informacje miałem z rozmów, które były prowadzone między Kube a generałem transportu. W ten sposób dowiedziałem się, że tysiące jeńców polskich ma być odtransportowanych do Smoleńska, dla tego, że u nas są trudności wyżywieniowe. To później zostało odrzucone. Ja tę rozmowę podsłuchałem.
ADW. WEGLINSKI: Wczoraj świadek powiedział, że mimo oburzenia ludności cywilnej, Koch kazał załadować jeńców na statek. Skąd świadek wie, że to Koch kazał załadować?
SWIADEK: Ja to słyszałem od ludności cywilnej, która twierdziła, że jej gauleiter Koch nie dał miejsca na statku i że wszystkie te sprawy leżały w ręku Kocha. Na to nie mam żadnych podkładek. To tylko wiem od ludności.
ADW. WEGLINSKI: W dniu wczorajszym z ust pana Przewodniczącego padło pytanie: czy świadek widział Kocha przed czy po egzekucji? Świadek odpowiedział krótko: tak. Ja chciałbym żeby świadek to uzupełnił. Kiedy tego dnia świadek widział oskarżonego Kocha: przed czy po egzekucji i w jakich okolicznościach?
SWIADEK: Ja nie widziałem Kocha tego samego dnia przez egzekucją tylko widziałem go poprzednio i jak widziałem go był w krótkich spodniach i w saku koloru beżowego. Ja obserwowałem egzekucję aż do końca i widziałem jak Koch się odwrócił i widziałem jego twarz i widziałem jak wracał do domu. Koch nie przystępował. Stał dokładnie w szeregu z policjantami polowymi i z tego miejsca strzelał, a potem zaraz odszedł, a policja i żandarmeria niemiecka skupiła się wokół zastrzelonych.
ADW. WEGLINSKI: Czy mógłby świadek podać, kto był najstarszy stopniem wśród policjantów lub żandarmów?
SWIADEK: Tego nie mogę powiedzieć, bo nie widziałem kto z tej grupy policjentów i żandarmów miał dowództwo. Koch w tej grupie z nikim się nie porozumiewał. Egzekucję obserwował mój przyjaciel Schneider. Co z nim jest, czyżyje, gdzie jest – nie wiem.
ADW. WEGLINSKI: Dziękuję.
ADW. SLIWOWSKI: Ja mam jeszcze pytanie do świadka.
PRZEW: Proszę bardzo.
ADW. SLIWOWSKI: Świadek mówił o komisji rzeczoznawców sprowadzonych w okolice Smoleńska w 1941 roku, gdzie dokonywano ekshumacji szeregu zwłok w mundurach polskich żołnierzy?
SWIADEK: Tak jest. Ja sam, osobiście byłem przy tym i widziałem jak byli tam profesorowie z Norwegii, ze Szwecji i z innych krajów okupowanych i którzy stwierdzili, że najwcześniejszym momentem śmierci mogła być jesień 1941 roku.
ADW. SLIWOWSKI: Czy był jakiś raport tej komisji?
SWIADEK: Tak. To było po wyjeździe tych profesorów. Oni pisali takie artykuły do gazet i sprawozdania.
ADW. SLIWOWSKI: Czy w tych sprawozdaniach było to, co świadek powiedział przed chwilą Sądowi?
SWIADEK: Tak, jest. To było w tych sprawozdaniach.
ADW. SLIWOWSKI: Dziękuję.
[...]
[ark. 57-58]
[...]
OSKARŻONY: Czy świadek chciał swoją wczorajszą i dzisiejszą wypowiedzią powiedzieć, że groby które zostały w Katyniu i Borysowie ekshumowane, zawierały trupy ludzi, którzy zostali rozstrzelani w 1941 roku z rozkazu Zarządu cywilnego?
SWIADEK: Jeżeli chodzi o groby w Borysowie, to byli wszyscy ludzie, którzy byli przewiezieni z okupowanych terenów, z Prus Wschodnich i jeszcze skądś i to było na rozkaz władz cywilnych. Co się tyczy zmarłych w Katyniu to byli jeńcy wojenni, z 1939 roku, wzięci do niewoli przez Armię Radziecką i którzy w czasie naszego marszu na wschód wpadli nam w ręce i mieli zostać odtransportowani, ale ze względu na braki transportu, nie było możliwe ich odtransportowanie.
OSKARŻONY: Czy zdaniem swiadka 20 tysięcy polskich oficerów w Katyniu zostało też zamordowanych przez nasz Zarzad cywilny?
SWIADEK: Jako głowni uczestnicy, były wymienione nazwiska: Kocha i Kubego, którzy byli wymienieni jako ci, którzy dali rozkaz na rozstrzelanie.
OSKARŻONY: Więc czy ja dobrze zrozumiałem, świadka, że tych 20 tys. polskich oficerów zostało zamordowanych na rozkaz Kocha i Kubego?
SWIADEK: Jak już wcześniej powiedziałem, wówczas słyszałem z częściowych rozmów, które prowadził Kube, że ci ludzie mają być odtransportowani do terenów położonych za frontem i że Zarząd cywilny ma się tym zająć. Dopiero później dowiedziałem się o tych wykopaliskach.
OSKARŻONY: Świadek nie odpowiedział na moje pytanie, dlatego jeszcze raz proszę o odpowiedź, czy odnalezione w grobach w Katyniu 20 tysięcy polskich oficerów, były to trupy zamordowanych przez Zarząd cywilny, przez Kocha i Kubego, czy przez kogo innego?
PRZEW: Chwileczkę. Świadek odpowiedział, że mieli być oni odtransportowani do terenów położonych za frontem i dopiero później dowiedział się o tych mogiłach.
OSKARŻONY: Czy świadkowi osobiście wiadomo jest, kto był wykonawcą zabójstwa polskich oficerów i jakiego rodzaju jednostki wojska niemieckiego wykonywały tę egzekucję?
SWIADEK: Rozstrzelanie miało nastąpić przez SS w Katyniu.
ADW. SLIWOWSKI: Czy świadkowi jest konkretnie wiadomo i skąd jakie władze niemieckie dały rozkaz rozstrzelania oficerów polskich w Katyniu?
SWIADEK: Dokładnie kto to zarządził nie wiem. Tylko z rozmów można było wnioskować, że Kube nie otrzymał żadnych możliwości transportu i że ich odtransportowanie do tyłu zostało odrzucone za radą Kubego.
PRZEW: Oskarżony ma jakieś pytanie? Proszę.
OSKARŻONY: Ja pozwalam jeszcze raz prosić pana Przewodniczącego, że świadek jednak nie odpowiedział na konkretne moje zapytanie, kto jest zdaniem świadka odpowiedzialny za rozstrzelanie polskich oficerów w Katyniu? Czy zostali oni rozstrzelani czy zastrzelani na rozkaz Kocha, Kubego, czy przez kogo innego i na czyj inny rozkaz?
PRZEW: Sąd stwierdza, że świadek swój pogląd oparty na pogłoskach już wyraził, nie widzi potrzeby dublowania pytań i pytanie to jako zbędne uchylam.
OSKARŻONY: Wobec tego uważam za konieczne jako oskarżony nawiązując do tego co wczoraj było mówione, między moimi obrońcami a prokuratorami że wszystko musi być zgodne z prawdą a nie z celowością, i dlatego muszę w imieniu honoru własnego, żołnierzy niemieckich i całego narodu niemieckiego oświadczyć, że ci oficerowie w Katyniu nie zostali zastrzeleni z rąk niemieckich. Bardzo proszę Wysoki Sąd aby mi pozwolił złożyć oświadczenie na końcu moich pytań jakie mam do świadka.
PRZEW: Nie zrozumiałem. Jakich pytań?
OSKARŻONY: Proszę o przerwę.
PRZEW: Zarządzam przerwę do godz. 13 30.
[...]
[ark. 59b]
OSK.: Chciałbym teraz mówić o scenie rozstrzelania, bo to jest mi jasne. Jak pan powiedział, to pan widział, jakoby w oddaleniu około 10 metrów, jak ci ludzie zostali koło pana przeprowadzeni a potem udał się pan na I piętro i zobaczył pan z odległości 30 metrów jak strzelało 4 czy 5 ludzi a wśród nich jakiś cywil? Na pytanie mojego obrońcy pan powiedział, że ja stałem tyłem do pana i wówczas kiedy ja się miałem odwrócić, pan mnie poznał. Czy to się zgadza?
SWIADEK: Tak jest.
OSK.: Pan wczoraj zupełnie zdecydowanie i dokładnie powiedział, że pan widział ogień z lufy pistoletu, mimo, że ja stałem tyłem do pana. W 20 wieku nie widać żadnego ognia z nowoczesnej broni, więc jak pan mógł widzieć ogień z broni, gdy ja stałem do pana tyłem?
SWI.: Ja widziałem jak unosił się dymek, który miał się unosić z tego pistoletu i widziałem jak Koch wyciągnął ramię.
OSK.: Jak mógł pan widzieć moją rękę gdy ja stałem tyłem i jak pan mógł widzieć dymek, kiedy z pistoletu 20 wieku nie wychodzi dym? Ja pozwalam sobie zaproponować Sądowi, by kazał przeprowadzić próbę, że jeżeli ktoś stoi plecami odwrócony, czy można widzieć rękę wyciągniętą a poza tym dymek wychodzący z lufy pistoletu? Jak wyglądali żandarmi z którymi ja rzekomo miałem strzelać?
SW.: Mieli zielone mundury polowe i do tego czaka.
[...]
[ark. 62-63]
PRZEW.: Dlaczego świadek powiedział, że został sprowadzony wbrew swojej woli? Czy do Poselstwa Polskiego - o czym świadek mówił wczoraj - zgłosił się również wbrew swojej woli?
SW.: W Ambasadzie Polskiej w Berlinie nic mi nie powiedziano, gdyż tam się nie mogłem porozumieć. Ale mnie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych powiedziano, że to jest bardzo pilna sprawa i że ja się mam udać w jaknajszybszą drogę i w tej formie, że nie mogłem odmówić.
PRZEW.: Ale czy inicjatywa stawania w tej sprawie od świadka wyszła?
SW.: Tak jest, wyszła ode mnie.
S.FRYDECKI: W jaki sposób Ministerstwo Spraw Zagranicznych dowiedziało się o tym, że świadek ma pewne wiadomości w tej sprawie?
SW.: Prawdopodobnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych dowiedziało się z listu, który ja swego czasu napisałem, gdy w naszych gazetach było napisane, że proces się rozpoczyna i wszędzie były ogłaszane listy ludzi, którzy znali Kocha i jego czyny, i jak ja zobaczyłem, że proces jest wyznaczony na kilka tygodni i Koch już 8 lat siedzi w więzieniu, to napisałem, że należy z nim tak zrobić krótko, jak u nas robili hitlerowcy.
PROK.SMOLENSKI: Może świadek wyjaśni, dlaczego świadek skierował to pismo do Ambasady?
SW.: Ja napisałem ten list aby wyjaśnić tę sprawę, jak ona jest. W gazecie było napisane, że Koch wszystkiemu tutaj przeczy, mówi, że nie istniały żadne obozy koncentracyjne, że nie było żadnych więzień i chciałem wyrazić, że to co świadkowie tutaj zeznają odpowiada prawdzie.
PROK.SMOLENSKI: Czyli świadek - jak z tego wynika - sam chciał w tej sprawie zeznawać?
SW.: To było zupełnie dalekie ode mnie, żeby tutaj występować w tej sprawie i aż do ostatniego momentu odmawiałem. I wówczas powiedziano mi z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że ja muszę jechać i w ciągu kilku godzin dano mi paszport. Ja swego czasu jak napisałem ten list i powiedziałem, że należy zrobić krótki proces, i że to co ludzie zeznają odpowiada prawdzie. Powiedziałem, że nie mam wezwania ale odpowiedziano mi, że wezwanie pocztą idzie i to jest ważne wezwanie.
ADW.SLIWOWSKI: Jakie wezwanie?
SW.: Nie było to wezwanie z Sądu dla mnie jako świadka, bo ja wcale nie miałem zamiaru stawać jako świadek .
[ark. 63b-66]
[...]
PEŁN.POW.CYW.: Ja mam pytanie do świadka.
PRZEW.: Proszę bardzo.
PEŁN.POW.CYW.: Czy świadkowi ze względów zawodowych było wygodnie przyjechać do Polski?
SW.: Ja nie mogłem nawet powiedzieć w mojej firmie z braku czasu, gdyż to zostało załatwione przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych bardzo szybko.
PRZEW.: Pytanie inaczej brzmiało. Czy ze względu na pracę zawodową dogodnie było świadkowi opuścić tę pracę?
SW.: Nie, nie było mi wygodnie.
PRZEW.: Proszę, niech świadek siada. Czy pan obrońca ma jakiś wniosek?
ADW.SLIWOWSKI: Tak jest. Ale kto ma pierwszeństwo.
PRZEW.: Obrona ma pierwszeństwo.
ADW.SLIWOWSKI: Obrona prosi o odczytanie względnie o uznanie za odczytane z zeznań świadka Bredlowa z dnia 1 grudnia 1958 r. Dokument ten został złożony na ręce Przewodniczącego. Obrona stawia ten wniosek, ponieważ w zeznaniach świadka przed prokuratorem a w dniu dzisiejszym istnieją sprzeczności.
W dalszym ciągu adw.Śliwowski stwierdza, że świadek w dniu dzisiejszym nie może dokładnie ustalić miejsca gdzie była egzekucja przeprowadzona, natomiast zeznając przed prokuratorem powiedział, iż egzekucja była przy tej ścianie domu, gdzie mieszkał Koch. Również istnieje sprzeczność w opisie egzekucji. Dzisiaj świadek kategorycznie zeznał iż był do końca egzekucji, natomiast przed prokuratorem powiedział, że był tak wstrząśnięty egzekucją że nie czekając końca, odszedł.
Adwokat Śliwowski wnosi o odczytanie bądź o uznanie za odczytane tych zeznań, które zostały złożone w prokuraturze i zezwolenie stronom na powoływanie się w dalszym ciągu procesu na ustalone sprzeczności.
ADW.WĘGLINSKI: Chciałem uzupełnić, jeśli Sąd pozwoli...
PRZEW.: Proszę bardzo.
ADW.WEGLINSKI: Szczególnie jaskrawo wystepują sprzeczności w zeznaniach swiadka w tym fragmencie kiedy opisuje scenę egzekucji. Swiadek oswiadczył kategorycznie na moje pytanie, że był do końca egzekucji, bo się pytałem jak zachowywał się Koch i czy podchodził rozstrzelanych. Na to pytanie swiadek odpowiedział, że Koch się odwrócił po egzekucji i wszedł do domu. Wydaje mi się, że nie można pogodzić zeznania swiadka z dnia 1 grudnia 1958r. z wersją podaną na rozprawie. Jedna z nich musi być nieprawdziwa.
PROK.SMOLENSKI: Jak najbardziej kategorycznie oponuję przeciwko wnioskowi obrony i to zarówno ze względów formalnych jak i merytorycznych. Jeszcze raz chcę podnieść okoliczność, o której już wczoraj mówiłem, że obrona musi się zdecydować: czy upatruje w tym dokumencie przesłuchania świadka[,] czy dokument w ramach art.300 k.p.k.
Nie ulega wątpliwości, że nie jest to protokół przesłuchania świadka, a więc wszelkie przepisy, o których mówi art.299 k.p.k. nie mogą być zastosowane. Przechodząc do strony merytorycznej: tych różnic w zeznaniach jest dużo więcej. Ogranicza się do stwierdzenia, że to jest jeszcze jednym potwierdzeniem tezy, że ten dokument, to tylko notatka informacyjna mająca zorientować Prokuraturę, czy św. Bredlow będzie mógł coś wnieść do sprawy i czy jego zeznania będą istotne. Te szerokie dzisiejsze zeznania świadka wskazują na to, że nie można mówić o tym by tamte notatki były zeznaniami. W tych warunkach wniosek obrony wydaje mi się zupełnie bezprzedmiotowy. Domaganie się dołączenia do materiału dowodowego tej notatki informacyjnej, jest sprzeczne z zasadą bezpośredniości i ustności tak bardzo bronioną przez obronę.
Z jednej strony mamy szkic, notatkę a z drugiej strony dokładne przesłuchanie świadka w warunkach, które nie naruszają tej t.zw. równości stron. W tych warunkach mając do czynienia z tymi dwoma dokumentami i domagając się zaliczenia do materiału dowodowego tej notatki, obrona chce chyba zdezawuować te zeznania świadka przed Sądem w warunkach bezpośredniości i ustności. Można przewidzieć, że obrona powie: "a tamte 13 protokołów"? Sytuacja jest odmienna. Tam nie dysponujemy zeznaniami świadków złożonymi przez Sądem.
Ja w imię zarówno przeszkód formalnych jak i merytorycznych, uważam zaliczenie tego dokumentu za absolutnie niedopuszczalne, zwłaszcza - i to należy również podnieść - iż dokument ten nie może być nawet nazwany w istocie dokumentem. Nie zawiera on nawet podpisu osoby, która ten dokument sporządziła. Oponuję zatem przeciwko wnioskowi obrony.
ADW.SLIWOWSKI: Jak wynika z treści dokumentu złożonego wczoraj przez Prokuraturę /używam nomenklatury prokuratora/ znajduje się w nim nazwisko czyniącego prokuratora, dokładne przesłuchanie, uprzedzenie o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Brak jest dwóch elementów i obrona zdaje sobie z tego sprawę. Brak jest numeru sprawy - jako że w Gen.Prokuraturze nie toczy się w tej chwili żadne śledztwo, przeciwko Kochowi a pozatem istotnie brak jest podpisu czyniącego prokuratora i świadka. Jak widać odpis jest uczyniony przez kalkę maszynową. Czy oskarżyciel publiczny - z uwagi na brak podpisu - kwestionuje treść tego zeznania?
Obrona - a myślę, że i Sąd - jest przekonany o tym, że oryginał odpowiada wszystkim cechom protokołu, a kopia z braku czasu, z pośpiechu - nie została opatrzona uwagą: "za zgodność". Rzecznicy oskarżenia poraz niewiem który zapraszają nas żebyśmy się zdeklarowali, że to co nazywa się najogólniej dokumentem - czy jest to dokument czy protokół zeznań świadka.
Ja nie pozostanę dłużny.
My to uważamy za protokół zeznań świadka, które Prokuratura - wbrew obowiązującym przepisom procedury - poczyniła na własną rękę, poza rozprawą.
Proszę Sądu. My się możemy mylić. Założywszy hipotetycznie, że chodzi o protokół zeznań świadka, wydaje mi się, że nie ma przepisu, który by uniemożliwiał nam postawienie tego wniosku, ale i Sądowi uwzględnienie. Mówi się tutaj, że nasz wniosek jest sprzeczny z zasadom bezpośredniości, na której nam zależy. Tak zależy nam. Ale stwierdzenie, że to jest sprzeczne z zasadą bezpośredniości jest niezrozumieniem zasady bezpośredniości. W tej sytuacji Sąd i strony nie mogłyby kontrolować zeznań świadka złożonych w śledztwie z zeznaniami złożonymi na rozprawie.
PRZEW.: Czy jeszcze długo?
ADW.SLIWOWSKI: Ostatnie zdanie.
PRZEW.: Proszę bardzo.
ADW.SLIWOWSKI: Jeśli nie było trudności z wezwaniem świadka Bredlowa to wydaje mi się, że nie było żadnych przeszkód żeby nim sprowadzić z Niemiec tych 13 świadków, i wtedy byłaby realizowana zasada bezpośredniości, która jest nam bardzo droga.
PRZEW.: Chciałam uprzejmie prosić pana obrońcę, by sprecyzował w jakim trybie wnosi o ogłoszenie tej notatki?
ADW.SLIWOWSKI: Przedtem musiałbym wysłuchać ostatecznej decyzji Sądu, za co Sąd uważa to co ja nazwałem protokołem, a oskarżenie - dokumentem. Teraz tego uczynić nie mogę.
PRZEW.: Pozwolę sobie zauważyć, że Sąd poweźmie decyzję i rozstrzygnięcie po wysłuchaniu wniosku stron i Sąd uważa że przy konkretnym wniosku musi być powołany konkretny przepis prawa, i dlatego prosi o podanie przepisu, na którym strona opiera swe żądanie.
ADW.SLIWOWSKI: Wszelkie ustalenia alternatywne nie są dokładnie sprecyzowane. Jeśli Sąd uzna ten "dokument" za dokument zeznań świadka proszę o ujawnienie jego fragmentów na zasadzie - per analogiem art. 299 k.p.k. Pozwolę sobie zaznaczyć, że analogia istnieje w pełni w kodeksie postępowania karnego. Jeśli dokument - to na zasadzie art.300 § 1 pkt.6 k.p.k., bowiem chyba nikt nie będzie kwestionował, że jest to dokument urzędowy.
PRZEW.: Może w tej kwestii Sąd narazie przerwie dyskusje stron. Czy oskarżony pragnie zabrać głos?
OSK.: Ja mam zamiar tutaj dokładnie odpowiedzieć i proszę z góry o przebaczenie wysokiego Sądu, jeżeli moje sformułowania nie będą takie jakie należy, ze względu na mój stan. Jeżeli chodzi o wypowiedzi świadka odnośnie Katynia i Piławy, to stoją one w tak diametralnej sprzeczności z prawdą, że jestem zmuszony zająć stanowisko.
Przypuszczam - mogę to przyjąć za pewnik - jeżeli chodzi o te dane odcinka frontu "środek", że Sąd jest dokładnie poinformowany i wie, jak w rzeczywistości sprawa się miała. Ja byłem Reichskokomiszarzem Ukrainy a Generalny Komisarz Mińska, nigdy nie należał do Ukrainy i był w składzie Reichskomisariatu Ostland a otrzymywał wszystkie rozkazy z Rygi. Ten Generalny Komisariat Mińsk - w tej chwili nie mogę podać dokładnie w jakim czasie - stał się samodzielny i nie podlegał Reichskomisariatowi Ostland, lecz był samodzielny i podlegał Ministerstwu. O ile ja sobie dobrze przypominam i nie mylę się, to Katyń, a względnie teren od Katynia do Smoleńska nigdy nie podlegał zarządowi cywilnemu lecz był zawsze poddany zarządowi armii. Jeżeli chodzi o teren zaplecza wojska to miał on swój własny zarząd i nie było tam żadnego zarządu cywilnego i zarząd cywilny nie mógł tak absolutnie niczym dysponować ani zarządzać. Generalny komisarz Kube na żadnym polu nie podlegał mi nigdy. Całkiem obojętne jakie to były sprawy. Ja nigdy nie udzielałem mu jakichkolwiek instrukcji lub wytycznych i nigdy z nim na Wschodzie nie rozmawiałem ani ustnie ani telefonicznie, ani w jakikolwiek inny sposób.
Te opowiadania świadka co do tego transportu na tyły są dla mnie tak niewiarygodne i nie przypuszczam aby kto inny poza nim o tym mówił. To dotyczy Rusi.
Obecnie przechodzę do sprawy Prus Wschodnich. To co świadek opowiada o Neuhäuser jest tak bardzo niezgodne z prawdą i tak fantastyczne, że trudno mi jestuwierzyć w dobrą wolę pana świadka.
[...]
[5 grudnia]
[ark. 68b-69b]
[...]
Teraz przechodzę do sprawy, która diametralnie rozmija się z prawdą a mianowicie w tym obwodzie gdzie znajdował się sztab, w tym przez żołnierzy dokładnie zamkniętym kole względnie kwadracie widzi świadek jak nagle 4 żandarmów występuje i prz[e]prowadza koło niego ludzi w cywilu. Dalej nic nie widzi tylko widzi na górę i przystępuje do okna. Z góry przez okno wyglądając widzi tych 4 żandarmów i jednego człowieka w cywilnym ubraniu strzelających do cywilów. On chciał w tym cywilu rozpoznać mnie jakkolwiek ja stałem do niego odwrócony plecami i to było wieczorem między 7 a 8 o zmierzchu. On chciał widzieć, że ja jakkolwiek stałem do niego odwrócony tyłem wyciągnąłem rękę i chciał widzieć ogień z lufy rewolweru. Czy mógłbym prosić Wysoki Sąd aby zechciał zapytać świadka czy on w tym momencie gdy widział mnie z podniesionym ramieniem, czy zauważył coś specjalnego?
PRZEW.: Nie bardzo rozumiem o co specjalnego chodzi.
OSKARŻONY: Gdy podniosłem mój pistolet, pytam się świadka czy on w tym momencie zauważył coś specjalnego w mej postawie? Nie mogę tego dokładnie teraz wytłumaczyć.
PRZEW.: Proszę zadać to pytanie świadkowi.
Oskarżony zadał powyższe pytanie.
SWIADEK: Nie mogę nic specjalnego stwierdzić.
OSKARŻONY: ale pan widział, że ja w prawej ręce trzymałem pistolet i że strzelałem?
SWIADEK: Tak jest.
OSKARŻONY: Swiadek oświadczył, że widział dokładnie, że ja prawą ręką wyciągnąłem i prawą ręką strzelałem. Muszę tutaj stwierdzić, że jeszcze nigdy w życiu nie strzelałem z prawej ręki, gdyż jestem mańkutem w strzelaniu i to jest znane.
PRZEW.: /do świadka/. Proszę siadać.
OSKARŻONY: Skąd pochodzą ci żandarmi? o ile sobie przypominam, to na pytanie jednego z moich obrońców świadek odpowiedział, że ci żandarmi nie nosili żadnych czapek tylko czaka. Wobec tego, ci czterej żandarmi, których widział świadek, byli policjantami. A jak mogą się znaleźć policjanci w ściśle odgrodzonym i zamkniętym przez wojska kwadracie, kwatery sztabu generała - pułkownika Weissa. Żandarmi wojskowi też nie mogli być, gdyż nosili oni albo czapki albo hełm stalowy tak samo jak każdy inny żołnierz i nie odróżniali się od innych żołnierzy. Ja zapytuję Wysoki Sąd, czy każdy człowiek, który służył w wojsku, jak może sobie wyobrazić, żeby w miejsku zamkniętym przez podoficerów, już nie mówiąc o oficerach mogli występować z cywilami i ich na ulicy poprostu zastrzelić. W tym czasie - i na to chciałbym położyć specjalny nacisk - nie posiadałem żadnego ubrania cywilnego i jedynym ubraniem był mundur. Nie posiadałem nawet szalika. Ja podkreślam specjalnie, żeby wypowiedzi świadka oznaczały więcej niż fantazje i nie mogę sobie wyobrazić jak świadek dochodzi do takich zeznań i kto go do tego nakłonił.
[...]
[ark. 72-73]
[...]
PEŁN.POW.CYW.: Ja będę prosił o głos.
PRZEW.: Proszę.
PEŁN.POW.CYW.: W związku z oświadczeniem Kocha o "spreparowaniu" świadka pozwolę sobie przypomnieć dyskusję jaka powstała przy zeznaniach świadka Radwańskiego. Koch, ten "chory człowiek", omal nie zerwał się z miejsca i wołał "to jest nieprawda co Radwański mówił, że była hala w Ciechanowie a więc ja Erich Koch, w tej nie-istniejącej hali być nie mogłem". Minęło 4 dni i ja złożyłem dokument urzędowy, którego chyba nie będzie kwestionował, że na podzamczu była wielka hala drewniana. później została zburzona, a do dziś są fundamenty. W związku z tym nieprawdziwość wyjaśnień Kocha została w sposób niewątpliwy udowodniona. Ma prawo kłamać jako oskarżony.
Chyba teraz Erich Koch nie będzie mówił o "spreparowaniu" dowodów. I chyba nie powie, że również jego własne rozporządzenie z dnia 15 sierpnia 1942 roku w którym on, Erich Koch, wielki dygnitarz zastrzega sobie i tylko sobie prawo zatwierdzania wyroków - zostało spreparowane. Niech już lepiej o preparowaniu dowodów Koch w tej sprawie nie mówi.
Pełn.pow.cywilnego zwrócił uwagę na nieścisłość przekładu w toku tłumaczenia.
PRZEW.: Proszę nie przerywać i zgłaszać uwagi co do tłumaczenia dopiero po wygłoszeniu przykładu.
ADW.WEGLINSKI: Ja chciałbym odpowiedzieć na oświadczenie pełnomocnika powoda cywilnego.
PRZEW.: To może łącznie?
ADW.WEGLINSKI: Dobrze.
PROK.SMOLENSKI: Zanim będę prosił Sąd o pozwolenie zadania świadkowi Bredlowowi pytań, chciałbym oświadczyć co następuje: Oskarżony Koch pozwala sobie nie po raz pierwszy na w tym procesie. Tym razem Koch śmie wysuwać bezczelne inwektywy, że prokuratura "spreparowała" świadka. Chcę stwierdzić, że świadek Bredlow został powołany przez Gen.Prokuraturę na skutek pisma jakie złożył w Ambasadzie Polskiej. Nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni świadek zostaje wzywany do prokuratora pomimo swojej woli. Odnośnie zaś treści zeznań św.Bredlowa, chciałbym prosić o możliwość zadania mu pytania.
ADW.WEGLINSKI: Jest mi niewymownie przykro, że i to ostatnie przemówienie mojego szanownego przeciwnika - pełnomocnika powoda cywilnego - muszę też zaliczyć do niefortunnych. Wydaje się, że ten rzekomy dokument ten [sic] nie został okazany Kochowi, nie został okazany obronie, i obrona wypowie się w stosownym czasie co do tego. Wydaje mi się, że będzie miał pełnomocnik powoda cywilnego - jeśli chodzi o drugą część jego przemówienia odpowiednią porę na zajęcie stanowiska w tej formie przy głosach stron. Co do stanowiska Ob.Prokuratora na zas.art.304 k.p.k. oskarżony ma prawo co do każdego dowodu zajmować stanowisko.
Sąd nie przywołał do porządku oskarżonego Kocha, ani nie zwrócił mu uwagi. Poza tym Koch z góry przeprosił - gdyby przekroczył przysługujące mu prawa gdyż nie zna procedury polskiej.
PEŁN.POW.CYW.: Jestem zaskoczony oświadczeniem kolegi, że "rzekomo" dokument miał być złożony. Ja dokument złożyłem do akt i mam prawo się na niego powoływać.
PRZEW.: Proszę niech świadek zbliży się do barierki.
W tym miejscu świadek zbliżył się do barierki.
PRZEW.: Pan prokurator, proszę.
PROK.SMOLENSKI: Czy i względnie w jaki sposób był świadek "preparowany" - jak to się wyraził osk.Koch - do składania zeznań w niniejszym procesie?
SW.: Ja nie dostałem co do tego żadnego pouczenia. Zostałem tutaj sprowadzony. W Berlinie nie byłem przesłuchiwany, a tylko tutaj i to całkiem krótko jak już o tym była mowa.
PROK.SMOLENSKI: Nie mam pytań.
PRZEW.: Dziękuję świadkowi, świadek jest wolny.
[3 декабря]
[лл. 38-38об]
СВ.: Как солдат немецкой армии, я был телеграфистом при главном штабе. И по этой причине у меня была возможность слушать разговоры, которые вел Кох с фельдмаршалом фон Боком.
Из этих разговоров я понял, что речь шла о доставке транспорта из тыла армии, главным образом с территории Польши.
ПРЕД.: В какое это было время?
СВ.: Это было в конце июля или в начале августа 1941 г. Польские граждане были привезены и расстреляны в лесах Борисова и Минска. Их расстреляли под предлогом, что речь идет о колонизации. Все их имущество было изъято и складировано в здании оперы в Минске.
ПРЕД.: Об этом свидетель знает из телефонных разговоров?
СВ.: Да.
[...]
ПРЕД.: Какую функцию исполнял гауляйтер Кубе?
СВ.: Кубе был подчиненным рейхскомиссара Коха. У него была функция такая же, как у Коха. Его резиденция была в Минске, где он руководил гражданской администрацией.
[...]
[лл. 39-39об]
СВ.: Гауляйтер Кубе был известен как массовый убийца. Он лишился жизни в 1943 или 1944 году, ему подложили мину под кровать. Когда немецкие солдаты прибыли на место, то мы наткнулись на лагеря польских офицеров, оставленных русскими. В то время мы привозили этих пленных машинами, по сто человек, и они выкапывали рвы для прокладки кабелей. Это было на участке от Катыни до Смоленска.
ПРЕД.: В какое это было время?
СВ.: Это было в августе и сентябре. Когда эти польские пленные у нас работали, от них я узнал, что они были в русском плену с 1939 года и мы их приняли.
ПРЕД.: Что стало с этими пленными?
СВ.: Сначала шла речь о том, что они должны быть отправлены в тыл. Гауляйтер Кубе провел несколько разговоров о том, что их нельзя выслать, потому что это несколько тысяч человек и есть трудности с транспортом. Я больше этих людей не видел. Только в 1942 или 1943 году, в 4 километрах от Катыни, недалеко от нашего штаба, началась эксгумация этих трупов. Я узнал по одежде, что речь шла о тех пленных, которые у нас работали. Гитлер вызвал экспертов, которые должны были исследовать эти материи.
ПРЕД.: Свидетель осматривал катынские могилы?
СВ.: Я присутствовал там и сам видел, как их раскапывали. Я знаю, что эксперты подтвердили, что смерть должна была наступить не раньше осени 1941 года.
ПРЕД.: Известно ли свидетелю, что с судьбой польских пленных была связана фамилия гауляйтера Коха?
СВ.: Этого я не могу сказать, существовала ли прямая связь, но это было на оккупированных территориях. Впервые я видел Коха во время отступления через Восточную Пруссию, мы были возле населенного пункта Боденхаузен.
[...]
[лл. 40-40об]
ПРЕД.: Свидетель видел какие-либо убийства ненемецкого населения?
СВ.: Да, видел. Я видел однажды, как около 10 полевых жандармов привели группу около 20 человек, и у некоторых из них был треугольник с надписью "Ost". Это было в конце марта или в начале апреля 1945 года. Этих людей убили.
ПРЕД.: Куда их привели и как их убивали?
СВ.: Их привели недалеко от казармы, где я жил, это было во дворе. На границе сада их выстроили полукругом и расстреляли. Я видел, как гауляйтер Кох стоял в группе полевых жандармов, держал пистолет в руке и сам стрелял.
ПРЕД.: Сколько выстрелов он сделал?
СВ.: Я не могу точно утверждать, но он должен был сделать два или три выстрела.
ПРЕД.: Откуда вы знаете, что это был Кох?
СВ.: Я лично точно запомнил его личность и это не мог быть никто иной, как именно он.
ПРЕД.: Сколько раз вы видели Коха раньше и в течение какого времени?
СВ.: Это могло быть два, три раза.
ПРЕД.: По чему вы узнали, что это был именно Кох?
СВ.: Прежде всего, я узнал его по серой темной одежде, а кроме того, я спрашивал полевую полицию, кто там был расстрелян, и тогда узнал от полицейского, что это были польские саботажники, и что сам Кох принимал участие в казни.
[...]
[лл. 43-43об]
АДВ.СЛИВОВСКИЙ Допрашивался ли свидетель когда-либо до сегодняшнего дня?
СВ.: Конечно. Я давал показания об этом в прокуратуре.
АДВ.СЛИВОВСКИЙ В какой прокуратуре и когда?
СВ.: Сразу в понедельник, когда я приехал в Польшу. Посольство ГДР привезло меня в какую-то прокуратуру и там меня допрашивали. Это не было в этом здании.
АДВ.СЛИВОВСКИЙ Свидетель сам явился в распоряжение прокуратуры, или свидетель был вызван?
СВ.: У нас в прессе часто пишут об этом процессе и в связи с этим возникают разные дискуссии. Поэтому я узнал, что Кох все отрицает и написал в Польское посольство в Берлине, что ему нельзя верить, потому что все это ложь.
АДВ.СЛИВОВСКИЙ Прежде чем мы зададим дальнейшие вопросы, просим Высокий Суд обеспечить, чтобы публичные обвинители предоставили протокол, который был составлен. Поскольку у защиты есть интерес в сравнении показаний свидетеля, данных сегодня и на предыдущем допросе. Поэтому также очень прошу предоставить этот протокол защите.
[...]
[4 декабря]
[л. 52]
АДВ.СЛИВОВСКИЙ: Откуда свидетелю известно, что Кубе был подчиненным Коха?
СВИДЕТЕЛЬ: Это же было видно, что он должен подчиняться рейхскомиссару, потому что высшую власть имеет рейхскомиссар, а рейхскомиссаром был Кох. Когда мы были в Барановичах, то слышали, что в этом округе гауляйтером является Кох, а в следующем округе в Борисове мы узнали, что гауляйтером является Кубе.
АДВ.СЛИВОВСКИЙ: А именно для какого округа был Кубе?
СВИДЕТЕЛЬ: Кубе был в Минске и для окрестностей Минска и, возможно, вплоть до Смоленска. Этого точно не могу сказать.
АДВ.СЛИВОВСКИЙ: Откуда свидетелю известно, что гауляйтер для Минска - Кубе подчинялся гауляйтеру для Белостока Коху?
СВИДЕТЕЛЬ: Это часто слышалось из разговоров, которые велись.
АДВ.СЛИВОВСКИЙ: Может ли свидетель назвать более точный источник своей информации, кроме разговоров?
СВИДЕТЕЛЬ: Я слышал это из разговоров, которые я слышал всегда кусками, что Кубе подчинен Коху, но точнее не слышал.
[...]
[лл. 55-56]
АДВ. ВЕНГЛИНСКИЙ: Вчера свидетель заявил, что делом эвакуации польских офицеров из окрестностей Катыни должен был заниматься Кубе? Откуда свидетель знает, что Кубе занимался этим делом?
СВИДЕТЕЛЬ: Эту информацию я получил из разговоров, которые велись между Кубе и генералом транспорта. Таким образом я узнал, что тысячи польских пленных должны быть оттранспортированы в Смоленск, потому что у нас есть трудности с продовольствием. Это позже было отклонено. Я подслушал этот разговор.
АДВ. ВЕНГЛИНСКИЙ: Вчера свидетель сказал, что несмотря на возмущение гражданского населения, Кох приказал погрузить пленных на судно. Откуда свидетель знает, что это Кох приказал погрузить?
СВИДЕТЕЛЬ: Я слышал это от гражданского населения, которое утверждало, что гауляйтер Кох не дал ему места на судне и что все эти дела были в руках Коха. У меня нет никаких подтверждений этому. Это я знаю только от населения.
АДВ. ВЕНГЛИНСКИЙ: Вчера из уст господина Председателя прозвучал вопрос: видел ли свидетель Коха до или после казни? Свидетель ответил коротко: да. Я хотел бы, чтобы свидетель это дополнил. Когда в тот день свидетель видел обвиняемого Коха: до или после казни и при каких обстоятельствах?
СВИДЕТЕЛЬ: Я не видел Коха в тот же день перед казнью, я видел его раньше, и когда я его видел, он был в коротких брюках и в пиджаке бежевого цвета. Я наблюдал за казнью до конца и видел, как Кох отвернулся, и видел его лицо, и видел, как он возвращался домой. Кох не подходил. Он стоял точно в ряду с полевыми полицейскими и с этого места стрелял, а потом сразу ушел, а полиция и немецкая жандармерия собралась вокруг застреленных.
АДВ. ВЕНГЛИНСКИЙ: Мог бы свидетель назвать, кто был старшим по званию среди полицейских или жандармов?
СВИДЕТЕЛЬ: Этого я не могу сказать, потому что не видел, кто из этой группы полицейских и жандармов командовал. Кох в этой группе ни с кем не общался. За казнью наблюдал мой друг Шнайдер. Что с ним, жив ли, где он – не знаю.
АДВ. ВЕНГЛИНСКИЙ: Спасибо.
АДВ. СЛИВОВСКИЙ: У меня есть еще вопрос к свидетелю.
ПРЕД.: Прошу.
АДВ. СЛИВОВСКИЙ: Свидетель говорил о комиссии экспертов, привезенных в окрестности Смоленска в 1941 году, где проводилась эксгумация ряда трупов в мундирах польских солдат?
СВИДЕТЕЛЬ: Так точно. Я сам лично присутствовал при этом и видел, как там были профессора из Норвегии, из Швеции и из других оккупированных стран, которые утверждали, что самым ранним временем смерти могла быть осень 1941 года.
АДВ. СЛИВОВСКИЙ: Был ли какой-либо отчет этой комиссии?
СВИДЕТЕЛЬ: Да. Это было после отъезда этих профессоров. Они писали такие статьи в газеты и отчеты.
АДВ. СЛИВОВСКИЙ: Было ли в этих отчетах то, что свидетель только что сказал суду?
СВИДЕТЕЛЬ: Да, было. Это было в этих отчетах.
АДВ. СЛИВОВСКИЙ: Спасибо.
[...]
[лл. 57-58]
[...]
ОБВИНЯЕМЫЙ: Свидетель хотел своим вчерашним и сегодняшним высказыванием сказать, что могилы, которые были эксгумированы в Катыни и Борисове, содержали трупы людей, которые были расстреляны в 1941 году по приказу гражданской администрации?
СВИДЕТЕЛЬ: Что касается могил в Борисове, то это были все люди, которые были перевезены с оккупированных территорий, из Восточной Пруссии и еще откуда-то, и это было по приказу гражданских властей. Что касается умерших в Катыни, то это были военнопленные с 1939 года, взятые в плен Советской Армией и которые во время нашего марша на восток попали нам в руки и должны были быть оттранспортированы, но из-за нехватки транспорта, не было возможности их оттранспортировать.
ОБВИНЯЕМЫЙ: По мнению свидетеля, 20 тысяч польских офицеров в Катыни были также убиты нашей гражданской администрацией?
СВИДЕТЕЛЬ: Как главные участники, были упомянуты фамилии Коха и Кубе, которые были названы как те, кто дал приказ на расстрел.
ОБВИНЯЕМЫЙ: Значит, я правильно понял свидетеля, что эти 20 тыс. польских офицеров были убиты по приказу Коха и Кубе?
СВИДЕТЕЛЬ: Как я уже раньше сказал, тогда я слышал из частичных разговоров, которые вел Кубе, что эти люди должны быть оттранспортированы в районы, расположенные за фронтом, и что гражданская администрация должна этим заняться. Только позже я узнал об этих раскопках.
ОБВИНЯЕМЫЙ: Свидетель не ответил на мой вопрос, поэтому еще раз прошу об ответе, были ли найденные в могилах в Катыни 20 тысяч польских офицеров трупами, убитыми гражданской администрацией, Кохом и Кубе, или кем-то другим?
ПРЕД.: Минуточку. Свидетель ответил, что они должны были быть оттранспортированы в районы, расположенные за фронтом, и только позже узнал об этих могилах.
ОБВИНЯЕМЫЙ: Известно ли свидетелю лично, кто был исполнителем убийства польских офицеров и какого рода части немецкой армии проводили эту казнь?
СВИДЕТЕЛЬ: Расстрел должен был произойти силами СС в Катыни. [Здесь калька с немецкого, сигнализирующая косвенность информации. - С. Р.]
АДВ. СЛИВОВСКИЙ: Известно ли свидетелю конкретно и откуда, какие немецкие власти дали приказ расстрелять польских офицеров в Катыни?
СВИДЕТЕЛЬ: Кто именно это приказал, я не знаю. Только из разговоров можно было сделать вывод, что Кубе не получил никаких возможностей для транспорта и что их оттранспортирование в тыл было отклонено по совету Кубе.
ПРЕД.: У обвиняемого есть какой-либо вопрос? Прошу.
ОБВИНЯЕМЫЙ: Я позволю себе еще раз попросить господина Председателя, что свидетель все же не ответил на мой конкретный вопрос, кто, по мнению свидетеля, несет ответственность за расстрел польских офицеров в Катыни? Были ли они расстреляны или застрелены по приказу Коха, Кубе, или кем-то другим и по чьему другому приказу?
ПРЕД.: Суд утверждает, что свидетель свое мнение, основанное на слухах, уже выразил, не видит необходимости дублировать вопросы и отклоняет этот вопрос как излишний.
ОБВИНЯЕМЫЙ: В связи с этим я считаю необходимым как обвиняемый, ссылаясь на то, о чем говорилось вчера, между моими защитниками и прокурорами, что все должно соответствовать правде, а не целесообразности, и поэтому я должен от имени собственной чести, немецких солдат и всего немецкого народа заявить, что эти офицеры в Катыни не были застрелены руками немцев. Очень прошу Высокий Суд позволить мне сделать заявление в конце моих вопросов, которые у меня есть к свидетелю.
ПРЕД.: Я не понял. Каких вопросов?
ОБВИНЯЕМЫЙ: Прошу о перерыве.
ПРЕД.: Объявляю перерыв до 13:30.
[...]
[л. 59об]
ОБВ.: Я хотел бы теперь поговорить о сцене расстрела, потому что с ней мне все ясно. Как вы сказали, вы видели, якобы на расстоянии около 10 метров, как этих людей провели мимо вас, а потом вы поднялись на I этаж и увидели с расстояния 30 метров, как стреляли 4 или 5 человек, а среди них какой-то гражданский? На вопрос моего защитника вы сказали, что я стоял к вам спиной, и тогда, когда я якобы повернулся, вы меня узнали. Это так?
СВИДЕТЕЛЬ: Так точно.
ОБВ.: Вы вчера совершенно решительно и точно сказали, что видели огонь из ствола пистолета, несмотря на то, что я стоял к вам спиной. В 20 веке не видно никакого огня из современного оружия, так как вы могли видеть огонь из оружия, когда я стоял к вам спиной?
СВ.: Я видел, как поднимался дымок, который должен был подниматься из этого пистолета, и видел, как Кох вытянул руку.
ОБВ.: Как вы могли видеть мою руку, когда я стоял спиной, и как вы могли видеть дымок, когда из пистолета 20 века не выходит дым? Я позволю себе предложить Суду, чтобы он велел провести эксперимент: если кто-то стоит спиной отвернувшись, можно ли увидеть вытянутую руку, а кроме того, дымок, выходящий из ствола пистолета? Как выглядели жандармы, с которыми я якобы должен был стрелять?
СВ.: У них были зеленые полевые мундиры и еще кивера.
[...]
[лл. 62-62об]
ПРЕД.: Почему свидетель сказал, что был привезен против своей воли? В Польское посольство - о чем свидетель говорил вчера - явился также против своей воли?
СВ.: В Польском посольстве в Берлине мне ничего не сказали, так как я там не мог объясниться. Но мне через Министерство иностранных дел сказали, что это очень срочное дело и что я должен отправиться как можно скорее и в такой форме, что я не мог отказаться.
ПРЕД.: Но вышла ли инициатива явки по этому делу от свидетеля?
СВ.: Так точно, исходила от меня.
С. ФРЫДЕЦКИЙ: Каким образом Министерство иностранных дел узнало о том, что свидетель имеет определенные сведения по этому делу?
СВ.: Вероятно, Министерство иностранных дел узнало из письма, которое я в свое время написал, когда в наших газетах было написано, что процесс начинается, и везде были опубликованы списки людей, которые знали Коха и его деяния. И как я увидел, что процесс назначен на несколько недель, и Кох уже 8 лет сидит в тюрьме, то написал, что следует с ним поступить так же быстро, как у нас поступали гитлеровцы.
ПРОК. СМОЛЕНСКИЙ: Может ли свидетель объяснить, почему свидетель направил это письмо в посольство?
СВ.: Я написал это письмо, чтобы объяснить это дело, как оно есть. В газете было написано, что Кох всему здесь противоречит, говорит, что не существовало никаких концентрационных лагерей, что не было никаких тюрем, и я хотел выразить, что то, что свидетели здесь показывают, соответствует правде.
ПРОК. СМОЛЕНСКИЙ: То есть свидетель - как из этого следует - сам хотел в этом деле свидетельствовать?
СВ.: Это было совершенно далеко от меня, выступать здесь по этому делу, и до последнего момента я отказывался. И тогда мне сказали в Министерстве иностранных дел, что я должен ехать, и в течение нескольких часов мне дали паспорт. Я в свое время, когда написал это письмо и сказал, что следует провести короткий процесс, и что то, что люди свидетельствуют, соответствует правде. Я сказал, что у меня нет повестки, но мне ответили, что повестка идет по почте, и это важная повестка.
АДВ. СЛИВОВСКИЙ: Какая повестка?
СВ.: Это не была повестка из суда для меня как свидетеля, потому что я вообще не имел намерения выступать как свидетель.
[лл. 63об-66]
[...]
ПОЛН. ПРЕД. ГР. ИС.: У меня есть вопрос к свидетелю.
ПРЕД.: Прошу.
ПОЛН. ПРЕД. ГР. ИС.: Было ли свидетелю по профессиональным соображениям удобно приехать в Польшу?
СВ.: Я не мог даже сказать на моей фирме из-за нехватки времени, поскольку это было очень быстро улажено Министерством иностранных дел.
ПРЕД.: Вопрос звучал иначе. Было ли свидетелю удобно с точки зрения профессиональной работы оставить эту работу?
СВ.: Нет, мне не было удобно.
ПРЕД.: Прошу, пусть свидетель садится. Имеет ли господин защитник какое-либо ходатайство?
АДВ. СЛИВОВСКИЙ: Так точно. Но чья очередь?
ПРЕД.: Защиты.
АДВ. СЛИВОВСКИЙ: Защита просит о зачитывании или о признании зачитанными показаний свидетеля Бредлова от 1 декабря 1958 г. Этот документ был отдан в руки Председательствующего. Защита заявляет это ходатайство, поскольку в показаниях свидетеля перед прокурором и сегодня существуют противоречия.
Далее адв. Сливовский утверждает, что свидетель на сегодняшний день не может точно установить место, где была проведена казнь, зато, свидетельствуя перед прокурором, сказал, что казнь была у той стены дома, где жил Кох. Также существует противоречие в описании казни. Сегодня свидетель категорически показал, что был до конца казни, зато перед прокурором сказал, что был так потрясен казнью, что, не дожидаясь конца, отошел.
Адвокат Сливовский ходатайствует о зачитывании или о признании зачитанными тех показаний, которые были даны в прокуратуре, и о разрешении сторонам ссылаться в дальнейшем ходе процесса на установленные противоречия.
АДВ. ВЕНГЛИНСКИЙ: Я хочу дополнить, если суд позволит...
ПРЕД.: Прошу.
АДВ. ВЕНГЛИНСКИЙ: Особенно ярко проступают противоречия в показаниях свидетеля в том фрагменте, когда он описывает сцену казни. Свидетель категорически заявил на мой вопрос, что был там до конца казни, потому что я спрашивал, как вел себя Кох и подходил ли он к расстрелянным. На этот вопрос свидетель ответил, что Кох повернулся после казни и вошел в дом. Мне кажется, что нельзя согласовать показание свидетеля от 1 декабря 1958 г. с версией, данной на заседании. Одна из них должна быть ложной.
ПРОК. СМОЛЕНСКИЙ: Я самым категорическим образом возражаю против ходатайства защиты как по формальным, так и по касающимся существа дела соображениям. Еще раз хочу поднять обстоятельство, о котором уже вчера говорил, что защита должна решить: усматривает ли она в этом документе допрос свидетеля[,] или документ в рамках ст. 300 УПК.
Несомненно, что это не протокол допроса свидетеля, а значит, все предписания, о которых говорит ст. 299 УПК, не могут быть применены. Переходя к существу: этих различий в показаниях гораздо больше. Ограничиваюсь утверждением, что это является еще одним подтверждением тезиса, что этот документ - это только информационная заметка, имеющая целью сориентировать прокуратуру, сможет ли св. Бредлов что-либо внести в дело и будут ли его показания существенными. Эти сегодняшние пространные показания свидетеля указывают на то, что нельзя говорить о том, что те заметки были показаниями. В этих условиях ходатайство защиты кажется мне совершенно беспредметным. Требование приобщения к материалу доказательств этой информационной заметки противоречит принципу непосредственности и устности, так сильно защищаемому защитой.
С одной стороны, у нас есть набросок, заметка, а с другой стороны, точный допрос свидетеля в условиях, которые не нарушают этого т. н. равенства сторон. В этих условиях, имея дело с этими двумя документами и требуя включения в доказательные материалы этой заметки, защита хочет, вероятно, дезавуировать эти показания свидетеля перед судом в условиях непосредственности и устности. Можно предсказать, что защита скажет: "а те 13 протоколов"? Ситуация иная. Там мы не располагаем показаниями свидетелей, данными перед судом.
Я по причине как формальных, так и существенных возражений считаю приобщение этого документа абсолютно недопустимым, особенно - и это также следует отметить - что этот документ не может быть даже назван по сути документом. Он не содержит даже подписи лица, которое этот документ составило. Поэтому я возражаю против ходатайства защиты.
АДВ. СЛИВОВСКИЙ: Как следует из содержания документа, представленного вчера Прокуратурой /я использую терминологию прокурора/, в нем находится фамилия действующего прокурора, точный допрос, предупреждение об уголовной ответственности за ложные показания. Недостает двух элементов, и защита отдает себе в этом отчет. Недостает номера дела - поскольку в Ген. Прокуратуре в настоящий момент не ведется никакого следствия против Коха, а кроме того, действительно недостает подписи действующего прокурора и свидетеля. Как видно, копия сделана через машинописную копирку. Оспаривает ли публичный обвинитель - ввиду отсутствия подписи - содержание этого показания?
Защита - а я думаю, что и суд - убеждена в том, что оригинал соответствует всем признакам протокола, а копия из-за нехватки времени, из-за спешки - не была снабжена пометкой: "за соответствие" ["с подлинным верно" - С. Р.]. Представители обвинения уже в который раз приглашают нас заявить, что то, что называется самым общим образом документом - это документ или протокол показаний свидетеля.
Я не останусь в долгу.
Мы это считаем протоколом показаний свидетеля, которые прокуратура - вопреки действующим предписаниям процедуры - совершила по собственной инициативе, вне заседания.
Прошу суд. Мы можем ошибаться. Предположив гипотетически, что речь идет о протоколе показаний свидетеля, мне кажется, что нет предписания, которое бы делало невозможным для нас подачу этого ходатайства, а для суда - его удовлетворение. Здесь говорится, что наше ходатайство противоречит принципу непосредственности, который нам так важен. Да, нам это важно. Но утверждение, что это противоречит принципу непосредственности, является непониманием принципа непосредственности. В этой ситуации суд и стороны не могли бы сверять показания свидетеля, данные во время следствия, с показаниями, данными на заседании.
ПРЕД.: Еще долго?
АДВ. СЛИВОВСКИЙ: Последнее предложение.
ПРЕД.: Прошу.
АДВ. СЛИВОВСКИЙ: Если не было трудностей с вызовом свидетеля Бредлова, то мне кажется, что не было никаких препятствий, чтобы перед ним привезти из Германии тех 13 свидетелей, и тогда был бы реализован принцип непосредственности, который нам очень дорог.
ПРЕД.: Я хотел бы любезно попросить господина защитника, чтобы он уточнил, в каком порядке он ходатайствует об оглашении этой заметки?
АДВ. СЛИВОВСКИЙ: Прежде я должен был бы выслушать окончательное решение суда, чем суд считает то, что я назвал протоколом, а обвинение - документом. Сейчас этого сделать не могу.
ПРЕД.: Позволю себе заметить, что суд примет решение и постановление после заслушивания ходатайств сторон, и суд считает, что при конкретном ходатайстве должна быть указана конкретная норма права, и поэтому просит указать норму, на которой сторона основывает свое требование.
АДВ. СЛИВОВСКИЙ: Все альтернативные определения не являются точно сформулированными. Если суд признает этот "документ" документом показаний свидетеля, прошу об оглашении его фрагментов на основании per analogiem ст. 299 УПК. Позволю себе отметить, что аналогия существует в полной мере в кодексе уголовного судопроизводства. Если документ - то на основании ст. 300 § 1 пкт. 6 УПК, так как, вероятно, никто не будет оспаривать, что это официальный документ.
ПРЕД.: Может быть, в этом вопросе суд пока прервет дискуссию сторон. Желает ли обвиняемый взять слово?
ОБВ.: Я намерен здесь точно ответить и заранее прошу прощения у высокого суда, если мои формулировки не будут такими, какими следует, ввиду моего состояния. Если речь идет о высказываниях свидетеля относительно Катыни и Пилавы, то они стоят в таком диаметральном противоречии с правдой, что я вынужден занять позицию.
Предполагаю - могу это принять за достоверное - если речь идет об этих данных участка фронта "центр", что суд точно информирован и знает, как в действительности обстояло дело. Я был рейхскомиссаром Украины, а Генеральный комиссар Минска никогда не принадлежал к Украине и был в составе Рейхскомиссариата Остланд и получал все приказы из Риги. Этот Генеральный комиссариат Минск - в настоящий момент не могу точно указать, в какое время - стал самостоятельным и не подчинялся Рейхскомиссариату Остланд, но был самостоятельным и подчинялся Министерству. Насколько я хорошо помню и если не ошибаюсь, то Катынь, или, соответственно, территория от Катыни до Смоленска никогда не подчинялась гражданской администрации, но была всегда подчинена управлению армии. Если речь идет о территории тыла армии, то она имела свою собственную администрацию, и там не было никакого гражданской администрации, и гражданская администрация не могла абсолютно ничем распоряжаться или управлять. Генеральный комиссар Кубе ни в какой области не подчинялся мне никогда. Совершенно безразлично, какие это были дела. Я никогда не давал ему каких-либо инструкций или указаний и никогда с ним на Востоке не разговаривал ни устно, ни по телефону, ни каким-либо другим способом.
Эти рассказы свидетеля относительно этого транспорта в тыл являются для меня настолько неправдоподобными, и я не предполагаю, чтобы кто-то другой, кроме него, об этом говорил. Это касается России.
Сейчас перехожу к делу Восточной Пруссии. То, что свидетель рассказывает о Нойхойзере, настолько не соответствует правде и так фантастично, что мне трудно поверить в добрую волю господина свидетеля.
[...]
[5 декабря]
[лл. 68об-69об]
[...]
Теперь перехожу к делу, которое диаметрально расходится с правдой, а именно в том районе, где находился штаб, в этом тщательно огороженном солдатами круге, или, соответственно, квадрате, свидетель видит, как внезапно 4 жандарма выходят и проводят мимо него людей в штатском. Далее ничего не видит, только смотрит наверх [?] и подходит к окну. Сверху, выглядывая в окно, видит тех 4 жандармов и одного человека в гражданской одежде, стреляющих по гражданским. Он якобы узнал в этом гражданском меня, хотя я стоял к нему повернутый спиной, и это было вечером, между 7 и 8, в сумерках. Он якобы видел, что я, хотя и стоял к нему повернутый спиной, вытянул руку, и он якобы видел огонь из дула револьвера. Мог ли бы я просить Высокий Суд, чтобы он изволил спросить свидетеля, заметил ли он что-то особенное в тот момент, когда видел меня с поднятой рукой?
ПРЕД.: Не очень понимаю, о чем особенном идет речь.
ОБВИНЯЕМЫЙ: Когда я поднял мой пистолет, я спрашиваю свидетеля, заметил ли он в этот момент что-то особенное в моей позе? Не могу это точно сейчас объяснить.
ПРЕД.: Прошу задать этот вопрос свидетелю.
Обвиняемый задал вышеуказанный вопрос.
СВИДЕТЕЛЬ: Не могу ничего особенного констатировать.
ОБВИНЯЕМЫЙ: Но вы видели, что я в правой руке держал пистолет и что стрелял?
СВИДЕТЕЛЬ: Так точно.
ОБВИНЯЕМЫЙ: Свидетель заявил, что видел точно, что я правой рукой вытянул и правой рукой стрелял. Должен здесь констатировать, что я еще никогда в жизни не стрелял с правой руки, так как я левша в стрельбе, и это известно.
ПРЕД.: /к свидетелю/. Прошу садиться.
ОБВИНЯЕМЫЙ: Откуда происходят эти жандармы? Насколько я помню, на вопрос одного из моих защитников свидетель ответил, что эти жандармы не носили никаких шапок, только кивера. Ввиду этого, эти четверо жандармов, которых видел свидетель, были полицейскими. А как могут оказаться полицейские в тщательно отгороженном и закрытом войсками квадрате, штаб-квартиры генерала-полковника Вайсса. [?] Военными жандармами они тоже не могли быть, так как те носили или фуражки, или стальные шлемы, так же, как каждый другой солдат, и не отличались от других солдат. Я спрашиваю Высокий Суд, может ли какой-либо человек, который служил в армии, представить себе, чтобы в месте, огороженном унтерофицерами, не говоря уже об офицерах, кто-то мог появляться с гражданскими и просто застрелить их на улице. В это время - и на это хотел бы я сделать особое ударение - я не имел никакой гражданской одежды, и единственной одеждой был мундир. Я не имел даже шарфа. Я специально подчеркиваю, что высказывания свидетеля это не более, чем фантазии, и я не могу себе представить, как свидетель пришел к таким показаниям и кто его к этому склонил.
[...]
[лл. 72-73]
[...]
ПОЛН. ПРЕД. ГР. ИС.: Я прошу слова.
ПРЕД.: Прошу.
ПОЛН. ПРЕД. ГР. ИС.: В связи с заявлением Коха об "обработке" свидетеля позволю себе напомнить дискуссию, которая возникла о показаниях свидетеля Радваньского. Кох, этот "больной человек", чуть не сорвался с места и кричал "это неправда, что Радваньский говорил, что был зал в Цеханове, а значит, я, Эрих Кох, в этом несуществующем зале быть не мог". Прошло 4 дня, и я представил официальный документ, который он, вероятно, не будет оспаривать, что у подножия замка был большой деревянный зал. Позже он был разрушен, а до сегодня существуют фундаменты. В связи с этим ложность объяснений Коха была несомненным образом доказана. Он имеет право лгать как обвиняемый.
Вероятно, теперь Эрих Кох не будет говорить об "обработке" доказательств. И, вероятно, не скажет, что также его собственное распоряжение от 15 августа 1942 года, в котором он, Эрих Кох, великий сановник, резервирует себе и только себе право утверждения приговоров, - было сфабриковано. Пусть уж лучше о фабрикации доказательств Кох в этом деле не говорит.
Полн. пред. гр. ис. обратил внимание на неточность в ходе устного перевода.
ПРЕД.: Прошу не прерывать и заявлять замечания относительно перевода только после оглашения примера.
АДВ. ВЕНГЛИНСКИЙ: Я хотел бы ответить на заявление полномочного представителя гражданского истца.
ПРЕД.: Может быть, вместе?
АДВ. ВЕНГЛИНСКИЙ: Хорошо.
ПРОК. СМОЛЕНСКИЙ: Прежде чем я буду просить суд о разрешении задать свидетелю Бредлову вопросы, хотел бы заявить следующее: Обвиняемый Кох позволяет себе [подобное поведение? - С. Р.] не в первый раз в этом процессе. На этот раз Кох смеет выдвигать бесцеремонные оскорбления, что прокуратура "обработала" свидетеля. Хочу констатировать, что свидетель Бредлов был вызван Ген. Прокуратурой вследствие письма, которое он подал в Польское Посольство. Не в первый и не в последний раз свидетель вызывается к прокурору против своей воли. Относительно же содержания показаний св. Бредлова, хотел бы просить о возможности задать ему вопрос.
АДВ. ВЕНГЛИНСКИЙ: Мне невыразимо жаль, что и это последнее выступление моего уважаемого противника - полномочного представителя гражданского истца - должно также отнести к неудачным. Мне кажется, что этот якобы документ не был показан Коху, не был показан защите, и защита выскажется в соответствующее время относительно этого. Мне кажется, что у полномочного представителя гражданского истца будет - если речь идет о второй части его выступления - соответствующее время для высказывания своего отношения в этой форме при голосах сторон. Относительно позиции гр. прокурора на осн. ст. 304 УПК обвиняемый имеет право относительно каждого доказательства высказывать свое отношение.
Суд не призвал к порядку обвиняемого Коха и не сделал ему замечания. Кроме того, Кох заранее извинился на случай, если бы он превысил принадлежащие ему права, поскольку он не знает польской процедуры.
ПОЛН. ПРЕД. ГР. ИС.: Я удивлен заявлением коллеги, что "якобы" документ должен был быть представлен. Я приобщил документ к делу и имею право на него ссылаться.
ПРЕД.: Прошу свидетеля подойдти к ограждению.
В этом месте свидетель подошел к ограждению.
ПРЕД.: Господин прокурор, прошу.
ПРОК. СМОЛЕНСКИЙ: Был ли и каким образом свидетель "обработан" - как выразился обв. Кох - для дачи показаний в настоящем процессе?
СВ.: Я не получил по этому поводу никаких инструкций. Меня сюда привезли. В Берлине меня не допрашивали, только здесь, и то совсем коротко, как уже об этом шла речь.
ПРОК. СМОЛЕНСКИЙ: У меня нет вопросов.
ПРЕД.: Благодарю свидетеля, свидетель свободен.
Приложение 2: избранные документы из агентурного дела агента "Тень" (Вацлава Пыха).
За исключением возможных ошибок при транскрипции документов в этой публикации сохранен стиль оригиналов. В частности, в машинописных документах часто наблюдается пропуск почти всех диакритических знаков.
Из-за запрета на копирование материалов агентурного дела (что автоматически распространяется и на размещение графики документов в интернете) здесь приводятся лишь транскрипции. Оригинал находится в архиве IPN в Люблине.
Письмо В. Пыха президенту Польши от 10.01.1948.
IPN Lu 003/567 t. 1, s. 89-90; машинописный подлинник с подписью. Здесь приводится только фрагмент на л. 89.
Obywatel P R E Z Y D E N T
Перевод:
Rzeczypospolitej Polskiej
W A R S Z A W A
Kancelaria Wojskowa
Proszę o wydanie zarządzenia celem prze prowadzenia dochodzeń i ewentualnego skierowania sprawy na drogę sądowa - co pozwoliłoby mi uzyskać zadośćuczynienie w następującej sprawie:
A) Zniesławienia mnie przez organa gen.Andersa - na godnosci czci żołnierskiej.
B) Zamordewania mi w kraju żony.
C) Zlikwidowania mojego mieszkania przez bezprawne zajęcie i zagrabienie mojego osobistego mienia.
P o w y ż s z e m o t y w u j ę:
Ad pkt. A
- 22 wrzesnia 1939 roku pod Włodźimierzem Wolynskim - zostałem oddany wraz z moją kompanią do niewoli sowieckiej - w której przebywałem do 28 sierpnia 1941 roku, pełniąc funkcję komendanta obozu (co było zgodne z organizacją obozu gdyż wzystkie funkcje amdinistracyjne pelnili polacy).
Po wcialeniu mnie z powrotem do wojska na terenie Z.S.S.R. w Tockoje (Stacja Zborna Lotników) - zarzucono mi współpracę i sympatję prosowiecką, wydalono z lotnictwa, wpisano na wykaz podejrzanych politycznie i oddano pod ścisły dozór 2-Oddziału w 7 D.P. - gdzie przebywałem do sierpnia 1947 roku t.j. do chwili opuszczenia szpitala - po czom jako repatriant 29 listopada 1947 roku z terenu Anglji wyjechałem do kraju - w kraju przez R.K.U. Lublin zostałem zdemobilizowany w stopniu sierżanta - gdyż ten stopien na obczyźnie jedynie mi przyznano (uwzględniając moje swiadectwo zdania egzaminu na sierżanta z przed 1939 r) do dalszych awansów i szkół wojskowych jako podejrzany politycznie drogę miałem zamkniętą.
[...]Гражданин П Р Е З И Д Е Н Т
Республики Польша
В А Р Ш А В А
Военная канцелярия
Прошу издать распоряжение с целью проведения расследований и возможного направления дела в судебном порядке - что позволило бы мне получить компенсацию по следующему делу:
A) О клевете на меня со стороны органов генерала Андерса - в отношении солдатской чести и достоинства.
B) О убийстве моей жены в стране [т. е. в Польше - С. Р.].
C) О ликвидации моего жилища путем незаконного занятия и разграбления моего личного имущества.
Вышеизложенное мотивирую:
По пункту A:
- 22 сентября 1939 года под Владимиром-Волынским я был вместе с моей ротой сдан в советский плен, в котором находился до 28 августа 1941 года, исполняя обязанности коменданта лагеря (что соответствовало организации лагеря, так как все административные функции выполняли поляки).
После повторного зачисления меня в армию на территории СССР, в Тоцком (Сборный пункт летчиков), мне было предъявлено обвинение в сотрудничестве и симпатиях к Советам, меня исключили из авиации, внесли в список политически подозрительных и передали под строгий надзор 2-го отдела 7-й пехотной дивизии - где я находился до августа 1947 года, то есть до момента выхода из госпиталя, после чего как репатриант 29 ноября 1947 года с территории Англии выехал в страну [Польшу - С. Р.] -
в стране через Районное командование пополнений в Люблине я был демобилизован в звании сержанта - поскольку это звание только и было мне присвоено за границей (с учетом моего свидетельства о сдаче экзамена на сержанта до 1939 года); как политически подозрительному, мне была закрыта дорога в отношении дальнейших повышений и военных школ.
[...]
Автобиография В. Пыха от 19.04.1948.
IPN Lu 003/567 t. 1, s. 56-58; рукописный подлинник.19-4-1948 r.Перевод:
Pych Wacław
Puławy
Kazimierska-12
Zyciorys
Urodziłem się 15-7-1906 r. - w Puławach (Włostowice) ojciec mój był stolarzem - matka - córką kowala z Malinówki pow. Lublin.
Ojciec przemosłszy się do w/w - miejscowości brał czynny udział w ruchach robotniczo-wyzwoleńczych co spowodowało jego przedwczesną - śmierć.
Matka po śmierci ojca przeniosła się do Lublina - w mieście tym chodziłem początkowo do szkoły powszechnej, następnie wieczorami do sredniej szkoły handlowej - zaś dniem pracowałem w Fabryce narzędzi rolniczych w charakterze slusarza mechanika[.}
28-8-1941 r - zostałem wcielony do Polskiego Wojska na terenie Rosii, w wojsku - na skutek donosów posądzony o komunizm i sympatje prosowiecką - oddany zostałem pod ścisły dozór "2 Oddz"[.]
Po przejśeiu wraz z wojskiem Iraku, Iranu, Palestyny, Egiptu, Włoch w Anglii po kuracji szpitalnej zgło siłem się do repatriacji i przybyłem do kraju 6-12-1947.
[подпись]
1926 r. zmuszony byłem opuscic fabrykę z powodu przynałeżności do "T.U.R" po upływie jednego roku bezrobocia w 1927 r zostałem powołany do wojska i wcielony do Baonu Lotniczego w Poznnaniu - gdzie po ukonczeniu wyszkolenia przeniesiono menie do C. W. L. N° 1 w Dęblinie na stanowisko referenta materiałowego, funkcję tą pełniłem do wybuchu wojny w 1939 r.
22-9-1939 r zostałem oddany do niewoli sowieckiej – w której zostałem obrany komendantem obozu
Komendantem byłem przez cały czas niewoli - organizując kołejno kilka nowych obozów
[далее о семье]
19-4-1948 г.
Пых Вацлав
Пулавы
ул. Казимежская, 12
Биография
Родился 15-7-1906 г. в Пулавах (Влостовице). Отец мой был столяром, мать - дочь кузнеца из Малинувки, повят Люблин.
Отец, переселившись в вышеуказанное местечко, принимал активное участие в рабоче-освободительных движениях, что послужило причиной его преждевременной смерти.
Мать после смерти отца переселилась в Люблин - в этом городе я сначала ходил в народную школу, затем вечером в среднюю торговую школу, а днём работал на фабрике сельскохозяйственных орудий в должности слесаря-механика.
28-8-1941 года был зачислен в Польскую армию на территории России, в армии, вследствие доносов, обвинён в коммунизме и просоветских симпатиях, передан под строгий надзор "2-го отдела".
Пройдя вместе с армией Ирак, Иран, Палестину, Египет, Италию в Англии, после лечения в госпитале, подал заявление о репатриации и прибыл в страну 6-12-1947.
[подпись]
В 1926 году я был вынужден покинуть фабрику из-за принадлежности к организации "Товарищество Рабочего университета", после года безработицы в 1927 году был призван в армию и зачислен в авиационный батальон в Познани, где, после окончания обучения, переведён в Центральную школу лётчиков № 1 в Демблине на должность референта по материальной части. Эту функцию исполнял до начала войны в 1939 году.
22-9-1939 года был сдан в советский плен, в котором был избран комендантом лагеря. Комендантом был всё время пребывания в плену, последовательно организуя несколько новых лагерей.
[далее о семье]
Донесение агента "Тень" (В. Пыха) от 10.08.1948.
IPN Lu 003/567 t. 2, s. 28-47; рукописный подлинник. Приводится фрагмент на лл. 30-33.
[...]
Дальше следуют подробные разделы о Войске польском в СССР, Персии, Ираке, Палестине, Египте, Италии, Англии.
Niewola Sowiecka
Mielismy do wyboru albo wrácić za Bug do niewoli niemieckiej[,] ewentualnie ominąć niewole niemiecką i pracować po stronie nemieckiej a zatem przeciwko swym braciom walczącym z niemcami - albo pozostać w niewoli Sowieckiej i pomodz władzom Sowieckim w organizowaniu obrony przeciw spodziewanej napaści niemieckiej---
Mądrzejsi wybrali to drugie rozwiązanie - inni zaś woleli wrocić pod zabór niemiecki - dziś wiemy że nie wielu z nich ocalało[.]
Bardzo smutny niezaprzeczenie fakt - że oficerowie nasi i tu niestaneli na wysokości zadania w niewoli wyparli się swych stopni - podając się za zwykłych robotników, zaś naszych zolnierzy pozostawiając ich własnemu losowi - to też tych ostatnich załamanie było wielkie, oficerowie za swoje opuszczenie ich w ciężkiej probie utracili autorytet zupelnie, nawet księża majdujący się w niewoli okazali się bez swych sutann mizernemi typami[.]
Ludzie przestali wierzyć w uczciwość, obowiązek i sprawiedliwość - dochodząc do stopnia zezwierzęcenia w niektorych wypadkach, i mimo że władze Sowieckie robiły co mogły aby dać możliwe warunki; n. p. w pierwszych dniach jeńcy otrzymałi posćiel, bieliznę, wymianę brakującej odzieży i żywność w dostatecznej ilości - za wykonywana prace otrzymywali wynagrodzenie jako cyw. robotnicy, ponadto wolno było organizować zespoły teatralne i muzyczne - na placach były urządrone
przyżądy [sic] do gier i ćwiczeń gimnastycznych - zaś żolnierze konwojów i ochrony najlżejszem słowem nie obrazili jeńca - to na to wszystko ten ostatni miał oczy zamknięte i jeniec polski żadko widzial w zołnierzu Sowieckim swojego brata słowianina, a natomiast często swego wroga "okrutnego bolszewika" bo tak mu widzieć od 20 lat kazała propaganda kleru i endecka[.]
Była w obozach duża ilość trzeżwych polaków którzy zdawali sobie sprawę, że jedynie dla Polski zbawienie oprzec się o Rosje, że wówczas znikną tragedje naszego narodu powtarzające się od wieków gdy dojdzie do zjednoczenia słowian - polacy ei chętnie brali czynny udział w samorządach obozowych - ja sam̄ organizowałemm obozy ua terenach zachodniej Ukrainy w Zachorcach, Radziwiłłowie, Sytnie, Rodatyczach, Janowie i Skniłowie i mogę stwierdzić stanowczo że polacy pracujący w samorządach obozowych pracowali z całym zaparciem się siebie i dziś po upływie lat jestem pewien że żadna komisja świata nieznajdzie by w wyżej wymienionych obozach umarł choćby jeden jeniec[.]
Tak było do roku 1941 - do chwili napadu hitlerowskiego na Związek Radziecki[.]
W roku tym zostalisiny ewakuowani do Starobielska - gdzie władzi Sowieckie ogłosiły jencom polskim amnestje.
Do obozu tego w niedługim czasie przybył płk Wiśniowski oznajmiając nam że Ojćzyzna nas ze słuzby niezwolniła - że jeśteśmy nadal wojskiem i wkrótce odjedziemy do wojskowych obozów[.]
Wojsko Polskie w Z.S R.R.
Na wezwanie puł Wisniowskiego wszyscy jency zgłosili się do polskiego wojska i po przyjeżdzie do Tockoje usłyszawszy zew gen. Andersa [...]
Перевод:
[...]
Дальше следуют подробные разделы о Войске польском в СССР, Персии, Ираке, Палестине, Египте, Италии, Англии.
Советский плен
У нас был выбор - либо вернуться за Буг в немецкий плен, возможно избежать немецкого плена и работать на немецкой стороне, а следовательно - против своих братьев, сражающихся с немцами, - либо остаться в советском плену и помочь советским властям в организации обороны против ожидаемого немецкого нападения.
Более разумные выбрали второй вариант, другие же предпочли вернуться под немецкую оккупацию - сегодня мы знаем, что немногие из них уцелели.
Очень печальный, несомненно, факт - что наши офицеры и здесь не проявили себя должным образом: в плену они отреклись от своих званий, выдавая себя за обычных рабочих, а наших солдат оставили их собственной судьбе - оттого последние были в большом унынии, офицеры из-за того, что оставили их в трудном положении, совершенно потеряли авторитет, даже священники, бездельничавшие в плену, без своих сутан оказались жалкими типами.
Люди перестали верить в честность, долг и справедливость - доходя в некоторых случаях до степени одичания, и несмотря на то, что советские власти делали всё возможное, чтобы дать приемлемые условия; например, в первые дни пленные получили постель, бельё, замену недостающей одежды и пищу в достаточном количестве - за выполняемую работу мы получали вознаграждение как гражданские рабочие, кроме того, разрешалось организовывать театральные и музыкальные коллективы, на площадках были устроены снаряды для игр и гимнастических упражнений - а солдаты конвоя и охраны ни словом не оскорбили пленного - однако на всё это последний закрывал глаза, и польский пленник редко видел в советском солдате своего брата-славянина, а напротив, часто видел в нём врага - "жестокого большевика", потому что так ему велела видеть пропаганда духовенства и эндеков на протяжении двадцати лет.
В лагерях было много трезвомыслящих поляков, которые понимали, что спасение Польши возможно только опираясь на Россию, что тогда исчезнут трагедии нашего народа, повторяющиеся веками, когда дойдёт до объединения славян - поляки эти охотно принимали активное участие в лагерных самоуправлениях - я сам организовывал лагеря на территории Западной Украины, в Захорцах, Радзивиллове, Сытне, Родатычах, Янове и Скнилове, и могу утверждать решительно, что поляки, работавшие в лагерных самоуправлениях, трудились с полным самоотвержением, и сегодня, по прошествии лет, я уверен, что никакая комиссия в мире не найдёт, чтобы в вышеупомянутых лагерях умер хоть один пленный.
Так было до 1941 года - до момента нападения гитлеровцев на Советский Союз.
В этом году мы были эвакуированы в Старобельск, где советские власти объявили польским пленным амнистию.
В этот лагерь вскоре прибыл полковник Вишневский, сообщив нам, что Родина не освободила нас от службы, что мы всё ещё являемся войском и вскоре отбудем в военные лагеря.
Польская армия в СССР
По призыву полковника Вишневского все пленные записались в польское войско и по прибытии в Тоцкое, услышав зов генерала Андерса [...]
Письмо В. Пыха в Управление общественной безопасности в Люблине от 14.12.1949.
IPN Lu 003/567 t. 1, s. 93; машинописный экземпляр без подписи.
Pych WacławПеревод:
Lublin
Bernardyńska
Nr. 16 m.2
Lublin, dnia 14.XII.1949 r.
Do
Urzędu Bezpieczenstwa [P]ublicznego
w Lublinie.
Dnia 2.IX.1949 [sic - 1939] r. została zbombardowana lotniska w Dęblinie - gdzie pracowałem w charakterze referenta materiałowego prowadząc gospodarkę mundurową.-
Mając do wyboru pozostanie w domu - lub udanie się na front, wybrałem to ostatnie - uważając, że jest to moim obowiazkiem bronię lud nasz przed najazdem Hitlera - mimo, ze w wojsku byłem stale krzywdz[o]ny.-
Podczas niedługiej kampanii mocno rozgoryczony i rozczarowany zachowaniem się naszego dowodztwa - po rozbrojeniu naszych oddziałów udałem się do Kowla. W Kowlu zwolniony z przysięgi żołnierskiej miałem do wyboru udanie się do domu - lub szukania dalszego sposobu walki z najeźdcą koledz udali się do Rumunii i Węgier ja jednak wybrałem ZSRR, uważając, źe jest to jedyne mocarstwo które może uwolnić świat od straszliwej zmory - jaką był Hitler.-
22.IX.1939r. znalazłem się na terenach Zwiazku Sowieckiego - parę miesięcy pracowałem fizycznie, następnie wyróźniony - zostałem powołany na stanowisko komendanta obozu internowanych polaków i na tym stanowisku pracowałem do 28.VIII.1941 r. organizując wiele obozów.
Zaznaczyć należy, że obozy nasze były organizowane na podstawie ustrojów samorządowych - i bardzo dobrze rozpatrzone. Dowodzą, ze we wszytkich obozach - nie było wypadków smiertelnych ani poważnych zachowań.-
Ludzki i przyjacielskie odnoszenie się władz sowieckich do internowanych polaków zjednało wielu sympatyków i przyjaciół dla ZSRR.
28.VIII.1941 r. do 1.VII.1942 r. po wcieleniu do wojska polskiego ja i wielu kolegow za okazywaną wspołpracę i przyjaźń do ZSRR - byliśmy poddani ostrym szykanom i prześladowaniom - przez usuwanie z lepszych oddziałów[,] więzienie, głodzenie i t.p.
1.VII.1942 r. usunięty karnie z lotnictwa za wspołpracę z czynnikami ZSRR - zostałem odesłany do m. Guzar w Uzbekistanie i, wtrącony wraz z kolegami do zamaskowanego więzienia pod ścisłą straż.-
Obowiazek me nakazuje donieść, ze czynniki andersowskie - wygłodziły w m.Guzar kilkanascie tysięcy ludzi - był to ich sposob załatwiania się ze stronnikami Rosji Sowieckiej - wielu dwojkarzy, ktorzy brali w tym czynny udział zyje do dnia dzisiejszego bądź za granicą, bądź w kraju.-
Dziwi mnie, ze dotychczas nie dosięgła ich ręka sprawiedliwości mimo splamienia rąk krwią najlepszych patriotow.-
W sierpniu 1942 r. z[o]stałem wysłany przez NKWD z zagranicą wraz z z [sic] resztą wyjezdzających polskich wojsk.-
Na moje oświadczenie, ze nie jestem pewien o swoje zycie - pułkownik NKWD oświadczył mi - ze jak mu wiadomo pracowałem dotychczas ofiarnie i na mnie jako na dobrego patriotę padł wybór bym udał się za granicę i czekał dalszych rozkazów. Rozkazów dalszych się nie doczekałem - bo po przekroczeniu granicy zostałem oddany pod ścisły dozór 2-ki w osobach: [...]
Пых Вацлав
Люблин
ул. Бернардиньска, д.16, кв.2
Люблин, 14 декабря 1949 г.
В
Управление общественной безопасности
в Люблине
2 сентября 1939 г. был бомбардирован аэродром в Демблине, где я работал в должности референта по материальной части, ведя учет обмундирования.
Имея выбор - остаться дома или отправиться на фронт, я выбрал второе, считая своим долгом защищать наш народ от нашествия Гитлера, хотя в армии меня постоянно ущемляли.
Во время недолгой кампании я был сильно разочарован поведением нашего командования; после разоружения наших подразделений я отправился в Ковель. В Ковеле, освобождённый от военной присяги, я стоял перед выбором - вернуться домой или искать другие способы борьбы с захватчиком. Коллеги уехали в Румынию и Венгрию, я же выбрал СССР, считая, что это единственная держава, способная освободить мир от ужасного зла, каким был Гитлер.
22 сентября 1939 г. я оказался на территории Советского Союза. Несколько месяцев работал физически, затем, отличившись, был назначен комендантом лагеря интернированных поляков, и на этой должности работал до 28 августа 1941 г., организуя множество лагерей.
Следует отметить, что наши лагеря создавались на основе самоуправления и были хорошо устроены. Ни в одном лагере не было смертельных случаев или серьёзных нарушений.
Людское и дружелюбное отношение советских властей к интернированным полякам завоевало для СССР многих сторонников и друзей.
С 28 августа 1941 г. по 1 июля 1942 г., после зачисления в польскую армию, я и многие коллеги за проявляемое сотрудничество и дружбу с СССР подвергались жестким притеснениям и преследованиям: нас отстраняли от лучших подразделений, заключали в тюрьму, морили голодом и т. п.
1 июля 1942 г. я был дисциплинарно отстранён от службы в авиации за сотрудничество с советскими органами, отправлен в г. Гузар (Узбекистан) и заключён вместе с коллегами в замаскированную тюрьму под строгий надзор.
Мой долг требует сообщить, что органы Андерса довели в Гузаре до голода несколько тысяч человек. Это был их способ расправы со сторонниками Советской России. Многие из двуйкажев [сотрудников 2-го отдела - С. Р.], принимавших в этом участие, живы до сих пор - либо за границей, либо в стране.
Меня удивляет, что до сих пор их не настигла рука правосудия, несмотря на то, что их руки запятнаны кровью лучших патриотов.
В августе 1942 г. я был отправлен НКВД за границу вместе с остальными польскими войсками.
На моё заявление о том, что моя жизнь находится под угрозой, полковник НКВД заявил мне, что, насколько ему известно, я работал самоотверженно, и выбор пал на меня, как на хорошего патриота, чтобы я отправился за границу и ждал дальнейших приказов. Дальнейших приказов я не дождался, потому что после пересечения границы меня передали под строгий надзор 2-го отдела в лице: [...]
Записка агента "Тень" (В. Пыха) вероятно от декабря 1949 г.
IPN Lu 003/567 t. 3, s. 81-83; рукописный подлинник. Приводятся фрагменты на лл. 81-82.
Proszę o udzielenie mi pomocy w niżej wymienionej sprawie. Dnia 22-9-1939 r. po rozbiciu armii polskiej - zwolniono mnie z przysięgi żołnierskiej z poleceniem udania się do domu.
Ja jednak udałem się do Z.S.R.R. Bo wierzyłem że tylko z tej strony - przyjdzie wyzwolenie dla świata od zmory Hitlerowskiej[.]
W Związku Radzieckim pracowałem początkowo fizycznie - następuie kilkakrotnie nagrodzony - zostałem wybrany komendantem obozów dla internowanych polaków w. Rodatyczach, Radziwiłłowie, Sytnie, Zachorcach, Janowie, Sknilowie i Starobielsku.
Do obowiązków moich należała całkowita organizacja obozów, oraz jego administracja[.]
Widząć ludzkie i braterskie odnoszenie się władz Sowieckich do polaków - prosiłem o przyęcie mnie do partii[.]
W maju 1940 r. zostałem przyjęty do N.K.W.D - i pracowałem tam pod pseudonimem "СЕМП" [...]
28-8-1941 r. zostałem wysłany do organizującego się w Z.S.R.R. wojska polskiego ze znakiem rozpoznawczym "Вы случаино в Одесе не были" z nakazem bym był ostrożny - gdyby okazało się ze jestem podejrzewany[.]
Ostrzeżenie okazało się sluszne - bo po wcieleniu mnie do polskich wojsk w Tockoje - nietylko mnie więziowo w zamaskowanych więzieniach - ale kilkakrotnie prubowano [sic] zgladzić gdyż każdy polak - podejrzany o sympatie prosowiecką - gdy się nie pilnowal - ginoł [sic].
1942 r. zostałem usunięty z lotnictwa - jako podejrzany o komunizm i przeniesiony do karnych obozów w Guzarach w Urbekistanie - zaznaczyć muszę że tam byli przesyłani wszyscy sympatycy Z.S.R.R.- gdzie poddawano ich powolnemu zagłodzeniu.
[...]
Перевод:
Прошу оказать мне помощь в нижеизложенном деле. 22-9-1939 г., после разгрома польской армии, меня освободили от военной присяги с указанием отправиться домой.
Я же отправился в СССР, потому что верил, что только с этой стороны придёт освобождение мира от гитлеровского кошмара.
В Советском Союзе я сначала работал физически - затем несколько раз был поощрён - и был назначен комендантом лагерей для интернированных поляков в Родатычах, Радзивиллове, Сытне, Захорцах, Янове, Скнилове и Старобельске.
В мои обязанности входила полностью организация лагерей и их административное управление.
Увидев человечное и братское отношение советских властей к полякам, я просил о приёме меня в партию.
В мае 1940 г. я был принят в НКВД и работал там под псевдонимом "СЕМП". [...]
28-8-1941 г. меня направили в формирующуюся польскую армию в СССР с паролем "Вы случайно в Одессе не были", с указанием быть осторожным на случай, если окажется, что меня подозревают.
Предупреждение оказалось верным, потому что после зачисления в польские войска в Тоцком меня не только держали в замаскированных тюрьмах, но и несколько раз пытались уничтожить: каждый поляк, подозреваемый в симпатиях к СССР, если не был осторожен, погибал.
В 1942 г. я был исключён из авиации как подозреваемый в коммунизме и переведён в штрафные лагеря в Гузарах, в Узбекистане. Следует отметить, что туда направляли всех сторонников СССР, где их медленно морили голодом.
[...]
Донесение агента "Тень" (В. Пыха) от 24.03.1952 г.
IPN Lu 003/567 t. 4, s. 117-123, рукописный оригинал.
Doniesienie
В оформленном как доклад о заявлении Пыха документе от 25.03.1952 (IPN Lu 003/567 t. 4, s. 125-127; исполнен на пишущей машинке), в котором повторен его текст (с ошибками и пропусками в некоторых местах, которые сотрудник УБ не смог разобрать), вместо приписки имеется следующий текст:
W sprawie Katynia - jej początku i koncu.
We wrzesniu 1939 r. po rozbiciu wojsk polskich przez najazd hitlerowski - duża czesc wojsk polskich znalazła się na wschód od Buga.
Wojska te w większosci bez dowództwa błakały się po Zachodniej Ukrainie bez celu, niezaopatrzone w żywność[,] głodne - niezdatne do walki z wrogiem bo nie posiadające broni a jak posiadające jako-taką broni to bez amunicji.
Z powodu niezaopatrzenia w żywność - wojska te rozpoczęły zdobywać ją własnym sposobem zabierając - miejscowej ludnosci - zaczeły się szerzyć rabunki, napady i gwałty.
Rząd Polski sanacyjnej uciekł do Rumunii!
Po ucieczce rządu - Związejk Radziecki postanowił zabezpieczyć tereny Zachodniej Ukrainy, wojska czerwonej armil przekroczyły starą granicу i - roztoczyły opiekę nad znękaną nalotami niemieckich bombowców ludnoscią.
Rabunki, gwałty i samowola lużnych oddziałów wojska polskiego została zahamowana i zlikwidowna.
Rzolnierzom [sic] polecono udać się swobodnie do domów, zas tych co niechcieli wraca pod okupację niemiecką postanowiono na czas wojny zabezpieczyc, organizując dla nich specjalne obozy w których zaopatrzenie w żywność, odzież i pod troskliwą opieką lekarską mogliby spokojnie doczekać się końca wojny i powrocie do domu.
Koncentracja żołnierzy którzy zdecydowali pozostać na ziemi Radzieckiej odbyła się w Szepietówce.
Podkreslić muszę że w czasie tej koncentracji uderzył mnie wybuch ogromnej nienawiści żolnierzy do oficerów wytykano im tchurzostwo, niedołęstwo w dowodzeniu, masowe ucieczki od oddziałów.
Niedopuszczano ich do studzien [sic] z wodą, do ustępów, do kuchni i.t.p.
Widząc to Władze Radzieckie wzięli w opiekę oficerőw polskich - od[d]zieliły ich od żolnjerzy przenaczając dla nich oddalone-oddzielne budynki.
Następne partie jakie nadchodziły były już przedtem podzielone na oficerów i szeregowych oddzielnie i kierowane do własciwych budynków.
Po zakonczeniu koncentracji - a był to pażdziernik 1939 r. żołnierze polscy byli odsyłani do domów, lub do poszczególnych obozów jak wspomniałem powyżej do obozów zostali kierowani ci co postanowili nie wracsć pod zabór hitlerowski.
W tym czasie i wielu oficerów wróciło do domu, gdys sam widziałem bardzo liczne wypadki przebierania się oficerów w mundury żołnierskie i przyłączania się do naszych grup - jak również zaobserwowałem wypadki że wielu żolnierzy podając się za oficerów przyłączało się do grup oficerskich.
Żołnierskie grupy do których ja należałem w składzie od 1000 do 2000 ludzi zostały rozmieszczone w obozach na Trasie [sic] Kijów-Lwów w pażdzierniku 1939 r. zas grupy inne nie zostały skierowane do kopalń, do przemysłu względnie na trasy w okolicach Charkowa, Smoleńska lub Moskwy.
Wszystkim naszym grupom odczytano regulamin o dobrowolnym zaciągnięciu się do pracy na prawach pracowników wolno-najemnych z zaznaczeniem że nikt do pracy nie będzie zmuszany, a kto chce może spokojnie wracać do domu.
Z obozu mojego który znajdował się w Zahorcach k. Dubna udało się do domu około 900 osób.
Obozy w tym czasie nie były pilnowane przeż specjalne warty, każdy z internowanych mógł swobodnie wychodzić i przychodzić kiedy mu się podobało.
Jednakże okoliczna ludność rozpoczęła skargi że zaczynają się mnożyc rabunki co nawet wywołało wypadki samosądów miejscowej ludności w stosunku do polaków[.] w [sic] takim stanie rzeczy Władzę Radzieckie były zmuszone obozy zabezpieczyc przez wartowników - czesto [sic] rekrutujących się internowanych, zaś na swobodne wychodzenie z obozu zezwalano tym co do których była pewność że nie spowoduja nowych skarg ze strony obywateli.
Po rozmieszczeniu żołnierzy - oficerowie polscy wraz z tymi co się do nich przyłączyli i niechcieli [sic] wracać pod okupacje hitlerowską ani niechcieli [sic] przyłączyć się do obozów pracy - zostali skierowani do Starobielska na Ukrainie - gdzie zorganizowano dla nich - dobrą opieke [sic] lekarską[,] szpitale, zdrowe i pożywne wyżywienie 5 x dziennie + sklepy zaopatrzone nietylko [sic] w żywość ale i w bielizne odzieżową, poscielową i wszelkiego rodzaju galanterie[.]
W obozie tym zorganizowano kluby, kina i biblioteki - urządzono wyciecki do okolicznych miejsc zabytkowych i wycieczki krajoznawcze[.]
Sprowadzono do obozu sprzęt sportowy i instrumenty muzyczne - jednym słowem wszystko co można było zrobić[.]
Jednakże zachodziły coraz częstsze wypadki że ludziom tym znudziło się życie składające się za złych rozrywek, stan bezczynności i lenistwa dokuczał im coraz bardziej - i w takich wypadkach żołnierze ci prosili usilnie o przesunięcie ich do obozów przacy i zgodnie z ich życzeniem byli oni przenoszeni[.]
Przemówienja takie miały miejsce w roku 1940 i 1941 zwłaszcza w 1941 r było bardzo dużo przeniesien ze Starobielska do naszych obozów pracy - podoficerów i podchorążych i żołnierzy - a nawet było między nimi jak się pozniej [sic] okazało i kilku oficerów[.]
Nazwiska ich - postaram się zebrać od swiadków podanych ponizej [sic] i przedstawie[.]
Największe nasilenia tych przeniesien z obozów Starobielskich, Krzyworozskich[,] Smoleńskich i pod-Moskiewskich były od wiosny 1941 r. do początków czerwca 1941 r.
Będąc komendantem i organizatorem obozów w Zachorcach, Radziwiłłowie, Sytnie, Rodatyczach, Janowie, Skniłowie ł Starobielsku - przyjmowałem tych ludzi prowadziłem ich ewidencje organizowałem ich w odpowiedni oddziały z tąd podawane fakty przezemnie są słuszne i prawdziwe[.]
Prawdziwość tych faktów mogą stwierdzić ob. ob. [sic] Wronko Tadeusz z Radomia[,] Jędrzejczak z Dęblina, Tar[?]ys Borys z Łodzi, Wajnberg z Wrocławia, Kirsz Arnold z Wrocławia, Grabowski, Zachwieja, Kotulski[,] Krzysztof Tynecki, Kłos[,?] por. Lachowicz, Wodski Aleksander z W-wy, Trocki, Trofimczuk, Borysiewícz, Gil, Tomczak, Wacław Madej z Lublina i w wielu innych - tylko należy ich odszukać umiejętnie zachęcić do powiedzenia prawdy - a potwierdzą moje słowa i podadzą wiele ciekawych dowodów - o których ja niewiem [sic]. To też na podstawie tych danych śmiało twierdzić mogę że kłamstwem jest iż oficerowie polscy zostali zamordowani masowo w
1940 r. w Katyniu jeżeli stwierdzone jest że w 1941 roku do czerwca byli jeszcze w Starobielsku.
Kłamstwem jest twierdzenie wrogiej propagandy jakoby obóź w. Katyniu liczył za 14000 oficerów - gdyż wiadomo jest każdemu polakowi - że obožy o Z.S.S.R. nie liczyly więcej jak 250-1500 osób, na co są dowody i co mogą potwierdzić wszyscy polacy którzy byli w Z.S.S.R. a którzy są obecnie w kraju.
22-6-1941 r. Niemcy hitlerowscy napadły na Związek Radziecki - obozy pracy były ewakuowane w głąb Z.S.R.R, i tu podkreślić muszę i uczynią to ze mno napewno podane przezemnie świadkowie - ogromne poswięcenie i bohaterstwo żołnierzy N.K.W.D. którzy ochraniali naszą ewakuacje [sic].
Na terenach Zachodnich Ukrainy ochronili nas przed napadem ukrainskich band faszystowskich, gdy okrążyły nas oddziały hitlerowskie - z narażeniem własnego życia wyrwano nas z zamykającego się kotła.
Bylismy kilkakrotnie zbombardowani przez hitlerowskie samoloty - żolnierze radzieccy ginęli razem z nami ale nas nie porzucali na pastwe wroga, przeciwnie byli wyrozumiali i cierpliwie na wszelkiego rodzaju szykany ze strony naszej znosili cierpliwie nasze szyderstwa i nasze zjadliwe docinki.
Nasi żolnierze w podobnej sytuacji - byli by [sic] napewno [sic] daleko mniej pobłażliwi.
W tym czasie byłem Naczelnikiem Gospodarczym N.K.W.D. i widziałem jaki ogrom pracy i poswięcenia funkcjonariusze N.K.W.D. w składzie aby zdobyć żywność dla nas. Nie pozbywano się nawet ludzi obłożnie chorych -
otaczając ich jaknajmożliwszą [sic] opieką.
Były wypadki ucieczki z naszej strony wówczas - ludzi tych nie scigano na pytanie dlaczego tego nie robią "enkawudziści odpowiadali" widocznie chcą iśc do Hitlera niech idą napewno [sic] jak go poznają to pożalują że odeszli, a nam bracia tacy ludzie nie potrzebni"[.]
Takie zachowanie się żolnierzy Radzieckich zadaje zdecydowany cios propagandzie hitlerowskiej a obecnie anglosaskiej posądzającej Związek Radziecki o zbrodnie w Katyniu.
W sierpniu 1941 r dotarlismy do obozów w Starobielsku - i tu dowiedziałem się że oficerowie polscy wyjechali na krótko przed nami do obozów pod Smoleńskiem[,] pod Kozielskiem i innych - a Starobielsk przeznaczony jest dla tych co będą budować lotnisko dla cięzkich bombowców.
W Starobielsku ja i podani przezemnie znajomi stwierdzili powtórnie ze oficerowie polscy byli jeszcze w roku 1941 wiosną[,] stwierdzilismy że wiadomosci o sposobie ich życia były prawdziwe.
Budując w/w lotnisko rozmawiałem z żolnierzami, podoficerami i oficerami przybyłymi ze wszystkich obozów a więc z obozów z pod Katynia, z rozmów tych dowiedziałem się jeszcze że pod Smoleńskiem koło Katynia są jeszcze polscy oficerowie i żołnierze przybędą do nas zaś oficerowie pojadą na punkt zbiorny oficerski[.]-
W pażdzierniku 1941 r. udaliśmy się do Tockoje w celu zorganizowania polskiej armii i stwierdziłem że do tegoż Tockoje przybyło bardzo wiele oficerów, węcej jak było potrzeba do obsadzenia etatów.
A więc wroga propaganda i tu dostaje cios, bo absolutnie nie można uwierzyć w to by rosjanie wymordowali ofícerów polskich w Katyniu a zostawili przy życiu oficerów w innych obozach i to takich zajadłych wrogów Związku Radzieckiego jak gen. Tokażewski, Anders, pułk. Okulicki i wielu-wielu innych.
Dziasjaj po upływie z góra 10 lat wiele faktów zapomniałem, zapomniałem wiele nazwisk mających niewątpliwie dzisjaj duże znaczenie dla sprawy - ale też nikt nie przypuszczał że anglosasi są zdolni do takiej makabrycznej podłości - by zażucać Bohaterskiemu [sic] Związkowi Radzieckiemu mord w Katyniu - niezależnie od tego uważam że można po odpowiednim zorganizowaniu sprawy i przygotowaniu świadków - zadać tej zlej propagandzie zdecydomany i ostateczny cios. - "Cień"
[Добавление синим карандашом другим почерком:] Strzałkowski ktory [sic] pracuje u W-wie C. Metalow. jako urzędnik był w obozie Starobielsku moze [sic] podac [sic] fakty o Katyniu.dodaje [sic] że świadkiem tego może być Ob. Strzałkowski który obecnie pracuje jako urzędnik w Centrali Metalowej w Warszawie gdyż był jeńcem Obozu Starobielsku i może podać fakt jak i nazwiska jeńców w Katyniu. W czasie przybycia mojego z obozu do obozów w Starobielsku mówili nam żołnierze radzieccy że niedługo przybędzie do obozu Starobi [sic] okolo 5 tys" oficerów polskich z obozów rozmieszczonych koło Smoleńska[.] Więcej faktów i nazwisk w sprawie Katynia nie znam, natomiast postaram się nawiązać kontakty z ludzmi znajpmyni [sic] s którymi przebywałem w oboz[-]zie [sic] i w przeprowadzonych rozmowach z nimi ustalę dalsze fakty jak i personalnie świadków w tej sprawie.
"Cien"
Перевод:
Донесение
В оформленном как доклад о заявлении Пыха документе от 25.03.1952 (IPN Lu 003/567 t. 4, s. 125-127; исполнен на пишущей машинке), в котором повторен его текст (с ошибками и пропусками в некоторых местах, которые сотрудник УБ не смог разобрать), вместо приписки имеется следующий текст:
О деле Катыни - его начале и конце.
В сентябре 1939 года, после разгрома польских войск вследствие гитлеровского нашествия, значительная часть польской армии оказалась к востоку от Буга.
Эти войска, в большинстве своём без командования, бродили по территории Западной Украины без цели, без продовольственного снабжения, голодные - непригодные для борьбы с врагом, потому что не имели оружия, а если и имели кое-какое оружие, то без боеприпасов.
Из-за отсутствия продовольствия эти войска начали добывать его собственным способом, отбирая у местного населения - начались грабежи, нападения и насилие.
Польское санационное правительство бежало в Румынию!
После бегства правительства Советский Союз решил обеспечить безопасность территории Западной Украины, войска Красной армии перешли старую границу и взяли под защиту население, измученное налётами немецких бомбардировщиков.
Грабежи, насилие и самоуправство разрозненных частей польской армии были пресечены и ликвидированы.
Солдатам было предложено свободно разойтись по домам, а тех, кто не хотел возвращаться под немецкую оккупацию, постановили на время войны обеспечить, организовав для них специальные лагеря, где, снабжённые продовольствием, одеждой и под заботливым медицинским присмотром, они могли бы спокойно дождаться конца войны и возвращения домой.
Сосредоточение солдат, решивших остаться на советской земле, происходило в Шепетовке.
Должен подчеркнуть, что во время этого сосредоточения меня поразила вспышка огромной ненависти солдат к офицерам - им ставили в вину трусость, беспомощность в командовании, массовое бегство из частей.
Их не подпускали к колодцам с водой, к уборным, к кухне и т. п.
Видя это, советские власти взяли польских офицеров под защиту - отделили их от солдат, разместив в отдельных, отдалённых зданиях.
Следующие группы, прибывавшие позднее, уже заранее делились на офицеров и рядовых и направлялись в соответствующие помещения.
После завершения сосредоточения - а это был октябрь 1939 года - польские солдаты направлялись по домам или в отдельные лагеря, как я уже упомянул выше; в лагеря были направлены те, кто решил не возвращаться под гитлеровскую оккупацию.
В то время и многие офицеры вернулись домой, так как я сам видел многочисленные случаи переодевания офицеров в солдатские мундиры и присоединения их к нашим группам - так же, как наблюдал случаи, когда многие солдаты, выдавая себя за офицеров, присоединялись к офицерским группам.
Солдатские группы, к одной из которых принадлежал и я, численностью от 1000 до 2000 человек, были размещены в лагерях по маршруту Киев-Львов в октябре 1939 года, а другие группы были направлены в шахты, на промышленность либо на участки в окрестностях Харькова, Смоленска или Москвы.
Всем нашим группам был зачитан регламент о добровольном поступлении на работу на правах вольнонаёмных работников с оговоркой, что никто не будет принуждён к труду, а кто пожелает, может спокойно возвращаться домой.
Из нашего лагеря, находившегося в Захорцах под Дубно, около 900 человек отправились домой.
Лагеря в то время не охранялись специальными караулами, каждый из интернированных мог свободно выходить и возвращаться, когда ему вздумается.
Однако местное население начало жаловаться, что начинают множиться грабежи, что даже вызвало случаи самосуда со стороны местных жителей по отношению к полякам, в такой ситуации советские власти были вынуждены обеспечить охрану лагерей охранниками - часто набираемыми из интернированных, при этом свободный выход из лагеря разрешался тем, в отношении кого была уверенность, что они не вызовут новых жалоб со стороны граждан.
После размещения солдат польские офицеры вместе с теми, кто присоединился к ним и не хотели ни возвращаться под немецкую оккупацию, ни присоединяться к рабочим лагерям, были направлены в Старобельск на Украине, где для них была организована хорошее медицинское обеспечение, больницы, здоровое и питательное питание 5 раз в день + магазины, обеспеченные не только продуктами, но и нижним бельём, постельными принадлежностями и всевозможной галантереей.
В этом лагере были организованы клубы, кинотеатры и библиотеки, устроены экскурсии по окрестным памятным местам и туристические поездки.
В лагерь были доставлены спортивный инвентарь и музыкальные инструменты - одним словом, всё, что можно было сделать.
Однако всё чаще случалось, что жизнь, состоящая из дурных развлечений, наскучивала этим людям, состояние праздности и лени тяготило их все сильнее, и в таких случаях эти солдаты настойчиво просили перевести их в трудовые лагеря, и согласно их просьбам они переводились.
Подобные обращения имели место в 1940 и 1941 годах, особенно в 1941 году было очень много переводов из Старобельска в наши рабочие лагеря - подофицеров и младших офицеров, а даже, как позже оказалось, нескольких офицеров.
Их фамилии я постараюсь собрать от свидетелей, указанных ниже, и предоставлю.
Наибольшее число таких переводов из лагерей Старобельска, Кривого Рога, Смоленска и подмосковных лагерей было с весны 1941 года до начала июня 1941 года.
Будучи комендантом и организатором лагерей в Захорцах, Радзивиллове, Сытне, Родатычах, Янове, Скнилове и Старобельске, я принимал этих людей, вел их учет, организовывал их в соответствующие подразделения, потому представленные мной факты верны и достоверны.
Достоверность этих фактов могут подтвердить граждане: Вронко Тадеуш из Радома, Енджейчак из Деблина, Тар[?]ыс Борис из Лодзи, Вайнберг из Вроцлава, Кирш Арнольд из Вроцлава, Грабовский, Захвея, Котульский, Кшиштоф Тынецкий, Клос[,?] поручик Лахович, Водский Александр из Варшавы, Троцкий, Трофимчук, Борисевич, Гиль, Томчак, Вацлав Мадей из Люблина и многие другие - их нужно только умело найти и побудить сказать правду, и они подтвердят мои слова и представят много интересных доказательств, о которых я не знаю.
К тому же на основании этих данных могу смело утверждать, что ложью является то, что польские офицеры были массово убиты в 1940 году в Катыни, если установлено, что в 1941 году до июня они ещё находились в Старобельске.
Ложным является утверждение враждебной пропаганды, будто лагерь в Катыни насчитывал 14 000 офицеров, так как каждому поляку известно, что лагеря в СССР не насчитывали больше 250–1500 человек, на что имеются доказательства и что могут подтвердить все поляки, которые были в СССР и которые в настоящее время находятся в стране [Польше - С. Р.].
22-6-1941 года гитлеровская Германия напала на Советский Союз - рабочие лагеря были эвакуированы вглубь СССР, и здесь должен подчеркнуть, и это подтвердят, несомненно, свидетели, указанные мной, - огромные самоотверженность и героизм солдат НКВД, которые охраняли нашу эвакуацию.
На территории Западной Украины они защитили нас от нападения украинских фашистских банд, когда нас окружили гитлеровские войска - с риском для собственной жизни вытащили нас из замыкающегося котла.
Мы несколько раз подвергались бомбардировкам гитлеровских самолетов - советские солдаты гибли вместе с нами, но нас не оставляли на произвол врага, напротив, были снисходительны и терпеливо переносили любые виды притеснений с нашей стороны, терпеливо переносили наши насмешки и колкие замечания.
Наши солдаты в аналогичной ситуации, безусловно, были бы гораздо менее снисходительны.
В это время я был начальником хозяйственной службы НКВД и видел, какой огромный труд и самоотверженность проявляли сотрудники НКВД, чтобы добыть для нас продовольствие. Даже тяжело больных людей не оставляли без внимания - окружали их максимально возможной заботой.
Были случаи побега с нашей стороны - этих людей не преследовали, на вопрос, почему они это делают, энкавэдисты отвечали: видимо, хотят идти к Гитлеру - пусть идут, наверняка, когда его встретят, пожалеют, что ушли, а нам, братья, такие люди не нужны.
Такое поведение советских солдат наносит решительный удар по гитлеровской пропаганде, а теперь - англосаксонской, обвиняющей Советский Союз в преступлениях в Катыни.
В августе 1941 года мы прибыли в лагеря в Старобельске, и здесь я узнал, что польские офицеры выехали незадолго до нас в лагеря под Смоленском, под Козельском и другие, а Старобельск предназначался для тех, кто будет строить аэродром для тяжёлых бомбардировщиков.
В Старобельске я и указанные мною знакомые повторно убедились, что польские офицеры ещё весной 1941 года находились там, мы установили, что сведения об их образе жизни были достоверны.
Строя вышеупомянутый аэродром, я разговаривал с солдатами, унтер-офицерами и офицерами, прибывшими со всех лагерей, в том числе из лагерей под Катынью, и из этих разговоров я также узнал, что под Смоленском, около Катыни, ещё находятся польские офицеры, а солдаты прибудут к нам, тогда как офицеры поедут на сборный офицерский пункт.
В октябре 1941 года мы отправились в Тоцкое с целью организации польской армии и я установил, что в это Тоцкое прибыло очень много офицеров, больше, чем было необходимо для укомплектования штатных должностей.
Таким образом, вражеская пропаганда здесь также получает удар, потому что совершенно невозможно поверить, что русские истребили польских офицеров в Катыни, оставив в живых офицеров в других лагерях, и то таких ожесточённых врагов Советского Союза, как генерал Токажевский, Андерс, полковник Окулицкий и многие-многие другие.
Сегодня, спустя около десяти лет, я забыл многие факты, забыл множество фамилий, имеющих, несомненно, сегодня большое значение для дела, но никто тогда не предполагал, что англосаксы способны на такую макабрическую подлость, чтобы обвинять Геройский Советский Союз в убийстве в Катыни; независимо от этого, я считаю, что после надлежащей организации дела и подготовки свидетелей можно нанести этой злобной пропаганде решающий и окончательный удар. -
"Тень"
[Добавление синим карандашом другим почерком:] Стжалковский, который работает в Варшаве в Центральной Металлургической конторе как служащий, был в лагере Старобельск и может сообщить факты о Катыни.
добавляю, что свидетелем этого может быть гражданин Стжалковский, который в настоящее время работает служащим в Центральной Металлургической конторе в Варшаве, так как он был пленником лагеря Старобельск и может сообщить факт[ы], а также фамилии пленных в Катыни. Во время моего прибытия из лагеря в лагеря в Старобельске нам говорили советские солдаты, что вскоре в лагерь Старобельск прибудет около 5 тысяч польских офицеров из лагерей, размещённых около Смоленска. Больше фактов и фамилий по делу Катыни я не знаю, однако постараюсь установить контакты со знакомыми людьми, с которыми я находился в лагере, и в проведённых с ними беседах установлю дальнейшие факты, а также персональных свидетелей по этому делу.
"Тень"
Письмо В. Пыха председателю Совета Министров Польши вероятно от декабря 1953 г.
IPN Lu 003/567 t. 1, s. 166-168; машинописная копия.
OdpisПеревод:
PYCH Wacław
Z-ca Dyr. do Spraw Handl.
"Centrogal"
Lublin, ul. Buczka 4
Tel. 22-47 pryw. 36-66
Do
Obywatela Prezesa Rady Ministrow
w W a r s z a w ie
Zazalenie
Zgodnie z ustawa o skargach i zazaleniach - zmuszony jestem złozyc zazalenie na Komitet Miejski - PZPR, ktory wprowadzony w bład przez osoby przesladujace mnie swoje nienawiscia za to, ze pietnowałem i stale pietnuję ich wroga działalnosc wrogi stosunek do naszej rzeczywistosci - odmawia wydania mi legitymacji partyjnej traktujac jako wroga klasowego - mimo tego, ze byłem przyjety do PPR i PZPR.
Opłacalem przez długi okres składki członkowskie, w przeszłosci walczyłem z naruszeniem zycia o nasza idee, zas obecnie oddaje wszystkie swe siły w ofierze i obronie naszego ustroju.
Dla podkreslenia prawdziwosci wymienionych wyzej danym [sic] osmielam sie podac kilka faktow.
Jestem pochodzenia robotniczo-chłopskiego: matka chłopka - ojciec robotnik - zamordowany przez carskich zandarmow za przynaleznosc do S.D.K.P. i L.
[...]
Praca moja polegała na pilnowaniu ewidencji i magazynowaniu przedmiotow umundurowania. Z jakimikolwiek cwiczeniami wojskowymi nie miałem nic wspolnego. Tak samo nie dopuszczono mnie do zadnych wojskowych szkoł 1939 r. widzac haniebna kleske i ucieczke oficerow do Rumunii i Wegier zebrałem w Deblinie 50 robotników rozgoryczonych tak jak i ja do ustroju faszystowskiego i z Deblina udalismy sie dobrowolnie do Z.S.S.R.
W Zwiazku Radzieckim rozpoczalismy prace jako fizyczny robotnicy odbudowy drog. Mnie w pracy zaczeto wyrozniac, odrazu odczułem roznice w traktowaniu człowieka, ze człowiek pracy w Z.S.S.R. jest szanowany i otoczony opieka panstwa.
W niedługim czasie zaczałem awansowac na: brygadiera, komendanta batalionu, głownego rachmistrza i w koncu komendanta obozu obejmujacego ponad 2500 osob. Nauczono mnie organizacji i administracji duzych zakładow pracy, przedsiebiorstw budowlanych, warsztatow i magazynow.
Brałem czynny aktywny udział w budowie drog strategicznych i umocnien lotnisk obronnych przeciw napadowi hitlerowskiemu.
Od 1940 r jako pracownik N.K.W.D. pod pseudonimem "Semp" rozpoczałem zdecydowana i aktywna walke ze wszelkiego rodzaju przejawami faszyzmu. Na terenie Z.S.S.R. organizowałem z towarzyszami radzieckimi przedsiebiorstwa strategiczno-budowlane w Zachorcach, Krasnoarmiejsku, Sytnie, Radatyczach, Janowie, Sknilowie i Starobielsku /rok 1940-1942/. Po napadzie hitlerowskim na Zwiazek Radziecki jako naczelnik gospodarczy N.K.W.D. wraz z towarzyszami radzieckimi prowadziłem ewakuacje zakładow pracy i pracownikow - przewaznie pod obstrzałem hitlerowskiej artylerii i samolotow 1941[.] W czasie organizowania sie wojska polskiego w ZSRR byłem wysłany do tego wojska przez władze radzieckie z zadaniem obserwacji i sygnalizacji w razie stwierdzenia wrogiej działalnosci.
Rozpoznany przez "2" andersowska po nieudanych zamachach arytobojczych [sic] na moje zycie - zostałem wyrzucony z wojska - wysłany do obozow zbiorczych Guzary w Uzbekistanie i oddany pod nadzór "2" andersowskiej - zorganizowanej z byłych zandarmow i policjantow. Obozy to były zamaskowane punkty eksterminacyjne, gdzie przez głodzenie, pracę fizyczna i uciazliwie cwiczenia wykonczono sympatykow ZSRR.
Ja uniknałem zagłady dzieki opiece materialnej N.K.W.D. W marcu 1942 r w okresie ciezkiego zmagania sie z faszyzmem Zwiazku Radzieckiego - uciekł z ZSRR. Andres [sic] zabierajac swoich wybrancow[.?] W cierpniu [sic] tegoz roku, zostałem wysłany przez władze radzieckie w slad za nim pod pseudonimem "Semp" z hasłem rozpoznawczym "Wy słuchajno [sic] w Odesie nie byli" i odezwem - niet nie był" z zadaniem dalszej obserwacji i wykonania zadan jakie bede w przyszłosci otrzymał.
Jednak od oddziałow Andersa dostac się nie mogłem bo trzykrotnie byłem przez "2" andersowska rozpoznawany - skreslony z listy i odesłany do obozow zbiorowych - pod stała inwigilacją.
Nie mogłem samotnie wydalic sie z obozu nie mogłem w nocy opuscic namiotu gdyz stale groziła mi smierc, zas w trzech wypadkach tylko dzieki ostrzezeniu towarzyszy, uniknałem morderczych zamachow. 1945 r przy koncu maja otrzymałem polecenie z ZSRR przez Neapol nakłaniania polakow do powrotu - aby tego dokonaс rozpoczałem prace uswiadamiajaca, oddałem sie do dyspozycji Ambasady P.R.L. w Londynie, zkad otrzymawszy prase krajową - rozpoczałem jej kolportarz we wszystkich polskich obozach. Polacy rozpoczeli masowy powrot do kraju - to tak rozwsciekliło faszystom, ze postanowili podstepnie zamknac mnie w szpitalu Nr 4 w Szkocji [sic] dla umysłowo chorych. W ten sposob rzad Londyński załatwiał sie ze swoimi przeciwnikami, ktorzy dali sie wziac na lep bezpłatnego zbadania zdrowia przed powrotem do Polski.
Poniewaz nie byłem jak przypuszczam uwazany za groznego przeciwnika - ostrzezony w pore przez towarzyszy zdołałem ze szpitala zbiedz i otrzymawszy zgode Ambasady P.R.L. powrociłem do Polski[.] W Polsce oddałem sie do dyspozycji władz bezpieczenstwa gdzie pod pseudonimem "Cien" pracowałem z szefem U.B. w Garwolinie pod tymze pseudonimem pracuje do obecnej chwili z U.B.P. w Lublinie przyczyniajac sie do unieszkodliwienia wielu wrogiej naszemu ustrojowi działalnosci.
[...]
Копия
ПЫХ Вацлав
Зам. директора по торговым вопросам
"Центрогал"
Люблин, ул. Бучка, 4
Тел. 22-47, дом. 36-66
Гражданину - Председателю Совета Министров
в Варшаве
Жалоба
В соответствии с законом о жалобах и протестах вынужден подать жалобу на Городской комитет ПОРП, который, введённый в заблуждение лицами, преследующими меня из-за их ненависти за то, что я осуждал и продолжаю осуждать их враждебную деятельность и враждебное отношение к нашей действительности, отказывает мне в выдаче партийного билета, считая меня классовым врагом - несмотря на то, что я был принят в ППР и ПОРП.
Я долгий период оплачивал членские взносы; в прошлом я боролся, рискуя жизнью, за нашу идею, а ныне отдаю все свои силы во имя и на защиту нашего строя.
Для подтверждения истинности перечисленных выше данных осмеливаюсь привести несколько фактов.
Я рабоче-крестьянского происхождения: мать - крестьянка, отец - рабочий, убитый царскими жандармами за принадлежность к СДКПиЛ.
[...]
Моя работа заключалась в надзоре за учётом и хранением предметов обмундирования. С какими-либо воинскими учениями я не имел ничего общего. Также меня не допускали в военные училища. В 1939 г., видя постыдное поражение и бегство офицеров в Румынию и Венгрию, я в Демблине собрал 50 рабочих, столь же возмущённых фашистским строем, как и я, и мы добровольно отправились из Демблина в СССР.
В Советском Союзе мы начали работать как рабочие на восстановлении дорог. Меня на работе начали выделять; я сразу почувствовал разницу в обращении с человеком, что человек труда в СССР уважаем и окружён заботой государства.
Вскоре меня стали повышать: до бригадира, коменданта батальона, главного счетовода и, наконец, коменданта лагеря, насчитывавшего более 2500 человек. Меня обучили организации и администрации крупных предприятий, строительных организаций, мастерских и складов.
Я принимал активное участие в строительстве стратегических дорог и укреплении аэродромов оборонительного назначения против гитлеровского нашествия.
С 1940 года, как сотрудник НКВД под псевдонимом "Семп", я начал решительную и активную борьбу со всеми проявлениями фашизма. На территории СССР я вместе с советскими товарищами организовывал стратегические строительные предприятия в Захорцах, Красноармейске, Сытне, Родатычах, Янове, Скнилове и Старобельске (1940–1942 гг.). После нападения Гитлера на Советский Союз, будучи начальником хозяйственной службы НКВД, я вместе с советскими товарищами руководил эвакуацией рабочих предприятий и работников - преимущественно под обстрелом гитлеровской артиллерии и самолётов в 1941 году. Во время формирования польского войска в СССР я был направлен в это войско советскими властями с задачей наблюдения и сигнализации в случае выявления враждебной деятельности.
Распознанный "2-й" (андерсовской) службой после неудачных покушений на мою жизнь - я был исключён из войск, отправлен в сборные лагеря Гузары в Узбекистане и передан под надзор андерсовской "2-ки" - организованной из бывших жандармов и полицейских. Эти лагеря были замаскированными пунктами истребления, где путём голодания, тяжёлой физической работы и изнурительных упражнений уничтожали сторонников СССР.
Я избежал истребления благодаря материальной опеке НКВД. В марте 1942 года, в период тяжёлой борьбы СССР с фашизмом, я бежал из СССР. Андерс, забрав своих избранных[...?] В августе того же года я был направлен советскими властями вслед за ним под псевдонимом "Семп" с паролем "Вы случайно в Одессе не были" и с ответом "Нет, не был", с задачей дальнейшего наблюдения и выполнения поручений, которые я буду получать в будущем.
Однако попасть в отряды Андерса мне не удалось, потому что трижды андерсовская "2-ка" меня распознавала, вычёркивала из списков и отправляла в сборные лагеря - под постоянную слежку.
Я не мог самостоятельно покинуть лагерь; не мог ночью покинуть палатку, так как мне постоянно грозила смерть, и в трёх случаях, лишь благодаря предупреждениям товарищей, я избежал покушений на убийство. В конце мая 1945 года я получил указание из СССР через Неаполь склонять поляков к возвращению - для этого я начал разъяснительную работу, поступил в распоряжение Посольства ПНР в Лондоне, откуда, получив национальную прессу, начал её распространять по всем польским лагерям. Поляки начали массово возвращаться на родину - это так разъярило фашистов, что они намеревались подло закрыть меня в больнице № 4 в Шотландии для душевнобольных. Таким образом лондонское правительство расправлялось со своими оппонентами, которых удалось заманить на бесплатное медицинское обследование перед возвращением в Польшу.
Поскольку, как я предполагаю, меня не считали опасным противником, своевременно предупреждённый товарищами, я сумел сбежал из больницы и, получив согласие Посольства ПНР, вернулся в Польшу. В Польше я поступил в распоряжение органов безопасности, где под псевдонимом "Тень" работал с начальником УБ в Гарволине; под тем же псевдонимом работаю и до настоящего времени в УБП в Люблине, способствуя нейтрализации многих враждебных нашему строю действий.
[...]
Записка поручика К. Колендерского с анализом агентурной деятельности агента "Тень" (В. Пыха) от 25.01.1954.
IPN Lu 003/567 t. 1, s. 42-43; машинописный подлинник с подписью и небольшим количеством рукописных вставок.
Lublin, dnia 25.I-1954 roku.Перевод:
Scisle tajne
ANALIZA PRACY AG. "C I E N"
Ag. "Cien" urodzony jest 1906 r. w Puławach, pochodzenie drobnomieszczanskiego, wykształcenie srednie. Przed rokiem 1939 słuzył w sanacyjnym lotnictwie jako podoficer zawodowy przez okres 12 lat do wybuchu wojny. W czasie działan wojennych przedostał sie na tereny Zw. Radzieckiego, gdzie przebywał w obozie dla Polakow. W czasie formowania sie Armii Andersa na terenie ZSRR, w/w wstapił do niej i razem z Andersem wyjechał do Iraku, Iranu, Palestyny, Egiptu, Włoch i Anglii, gdzie przebywał juz po zakonczeniu wojny do czasu powrotu do Polski t.j. do grudnia 1947 r. Jak podaje w swych zeznaniach miał on byc rzekomo przesladowany przez II Oddz. A. Andersa za jego "lewicowe" poglady, za co nie był awansowany.
W/g danych niesprawdzonych wymieniony jest podejrzany ze przed 1939 r. wspołpracował z "dwojką" a na emigracji na terenie Anglii słuzył w lotnictwie w Dywizjonie 318 – był Szefem Sztabu do czego nie przyznaje się. Powyzszych danych nie mozna było jednak potwierdzic z uwagi na brak ludzi, ktorzy znaliby wymienionego z tych okresow czasu, lub niema pewnosci, ze ci co mogliby cokolwiek potwierdzic, [рукописная вставка] będą chcieli fakty te wyjaśnić.
Po powrocie do Polski zamieszkał pewien okres w Irenie k/Deblina woj. warszawskie u swej tesciowej, poniewaz zona jego w okresie okupacji została zabita przez partyzantke, gdyz była podejrzana o wspołpracę z "gestapo". Podczas pobytu w Irenie nie pracował nigdzie – zajmował sie nielegalnym handlem, nastepnie wybył do Puław do swej rodziny, a z koleii przybyl do Lublina, gdzie zaczał pracować w Centrali Handlowej Materiałow Tekstylnych na kierowniczym stanowisku. Po pewnym czasie wstapil do partii, lecz w 1952 r. został wykluczony za swa przesłosc i obecna działalnosc. Jest on podejrzany ze utrzymuje kontakty z andersowcami o ktorych nie mowi. Jego kolega z 318 Dywizjonu na terenie Anglii, miał po wyzwoleniu nielegalnie zbiedz z lotniska w Deblinie samolotem do Anglii, oraz ze jest on zamaskowanym wrogiem.
Wspomniany zawerbowany został dnia 20.VII-1948 r. przez ref. PUBP. w Garwolinie, u ktorego był na kontakcie do 4.III-49 r. t. j. do czasu wyjazdu z tamt. terenu. Jak wynika z charakterystyki to w tym czasie był czetny, lecz materialy jego nie przedstawiały duzej wartosci operacyjnej, mimo posiadanych przez niego mozliwosci. Z chwila gdy rozpoczał prace w Lublinie ponownie został przyjety na kontakt przez Wydz. IV tut. Urzedu w 1949 r. /pod koniec/. W czasie współpracy dał on materialy na grupe pracownikow "Centrali Tekstylnej", ktorzy mieli nalezac do nieleg. org. lecz gdy przystapiono do realizacji jednego z gławnych figurantow, okazało sie, ze materialy jego były naciagniete i nieprawdziwe. Mimo tego w dalszym ciagu zaczal sugerowac o istnieniu tejze org. i działalnosci jej figurantow. Poniewaz figuranci na ktorych podawał materialy byli w zainteresowaniu tut. Wydz. jako b. czł. podziemia i kilka osob z nimi zwiazanych, na podstawie posiadanych przez nas materiałow zostało arestowanych za działalnosc bandycka i czesc materialow potwierdziła sie z danymi inf. "Cien", postanowiono go w 1953 przejac na łacznosc dla całkowitego rozpracowania tejze organizacji. W czasie pracy z nim okazało sie ze w momencie kiedy podawał iz figurant jest podległy kierownictwu podziemia przez niego nieznanemu, gdy otrzymał zadanie wyjazdu razem z figurantem, to odkładał to zadanie tłumaczac sie tym, ze fig. niema czasu, a w koncu stworzył sobie legende/dotychczas niesprawdzona ze figurant całkowicie zerwal z nim kontakty i niechce wiecej z nim rozmawiac na te tematy, gdy podejrzewa go o wspołprace z B.P., mimo ze zadnych dowodow dekonspiracji nie był w stanie przedstawic. W czasie dawanych mu zadan był kilkakrotnie sprawdzany przez obserwacje i w tym czasie podawane przez niego kontakty potwierdzaly sie, lecz mimo to jest do niego zastrzezenie, ze w dalszym ciagu stara sie byc dwolicewym. Ostatnio stawił propozycje, szeby go jeszcze z kilkoma pewnymi ludzmi wysłac do Anglii - przerzucic to on znajac osobiscie Andersa i jego obyczaje pojedzie zabic go, gdyz ma do niego straszne pretensje za rzekome przesladowanie go, lecz wynikało to z jego strony na umozliwienie mu ucieczki do Anglii.
Oprocz tego faktu na spotkaniach niejednokrotnie starał sie wykazywac swoja nadgorliwosc, ktora wyrazała sie w prowokacyjnych propozycjach,co jednak rzucało podejrzenie, ze robi on to w jakims okreslonym celu.
Wobec tego proponuje wyeliminowac wymienionego z sieci jako dwolicowca i prowokatora, ktory jednoczesnie moze byc wykorzystywan przez obce agentury wywiadu.
Naczelnik Wydziału V
WUBP W LUBLINIE
/-/ Z-ca KOLENDERSKI K.por.
Люблин, 25.I-1954.
Совершенно секретно
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТА „ТЕНЬ”
Агент „Тень” родился в 1906 г. в Пулавах, происхождение - мелкобуржуазное, образование - среднее. До 1939 года служил в санацийной авиации в качестве профессионального унтер-офицера в течение 12 лет до начала войны. В ходе военных действий оказался на территории СССР, где находился в лагере для поляков. В период формирования армии Андерса на территории СССР вышеупомянутый вступил в неё и вместе с Андерсом выехал в Ирак, Иран, Палестину, Египет, Италию и Англию, где пребывал уже по окончании войны до возвращения в Польшу, т.е. до декабря 1947 г. По его собственным показаниям, он якобы подвергался преследованиям со стороны II отделения армии Андерса за его "левые" взгляды, из-за чего ему не давали повышения.
По неподтверждённым данным, упомянутый подозревается в том, что до 1939 г. сотрудничал с "двуйкой", а на эмиграции на территории Англии служил в авиации в 318-м дивизионе - был начальником штаба, в чем не признаётся. Однако вышеуказанные данные не удалось подтвердить из-за отсутствия людей, которые знали бы упомянутого в тот период, либо нет уверенности в том, что те, кто мог бы что-то подтвердить, захотят прояснить эти факты.
После возвращения в Польшу некоторое время жил в окрестностях Ирены (около Демблина) в варшавском воеводстве у своей тёщи, поскольку его жена в период оккупации была убита партизанами, так как её подозревали в сотрудничестве с "гестапо". Во время пребывания в Ирене он нигде не работал - занимался незаконной торговлей, затем уехал в Пулавы к своей семье, а затем прибыл в Люблин, где начал работать в Центральной торговой конторе текстильных материалов на руководящей должности. Спустя некоторое время вступил в партию, но в 1952 г. был исключён за своё прошлое и настоящую деятельность. Подозревается, что он поддерживает контакты с андерсовцами, о которых не говорит. Его товарищ по 318-му дивизиону, находившийся в Англии, после освобождения незаконно сбежал с аэродрома в Демблине самолётом в Англию, и утверждается, что он является замаскированным врагом.
Упомянутый был завербован 20.VII.1948 г. референтом повятового управления общественной безопасности в Гарволине, у которого находился на контакте до 4.III.1949 г., т.е. до отъезда из того района. Как следует из характеристики, в то время он был деятельным, однако его материалы не представляли большой оперативной ценности, несмотря на имеющиеся у него возможности. С момента, когда он начал работу в Люблине, он вновь был принят на контакт IV отделом данного Управления в 1949 г. (в конце года). В период сотрудничества он предоставил материалы на группу работников "Централи текстильной", которые якобы должны были принадлежать к нелегальной организации, но когда приступили к реализации одного из главных фигурантов, выяснилось, что его материалы были надуманными и ложными. Несмотря на это, он продолжал настаивать на существовании этой организации и деятельности её фигурантов. Поскольку фигуранты, на которых он подавал материалы, объектами интереса данного Отдела как бывшие члены подполья, и несколько лиц, связанных с ними, на основании имеющихся у нас материалов были арестованы за бандитскую деятельность, и часть материалов подтвердилась данными информатора "Тень", было принято решение в 1953 году взять его на связь для полной разработки указанной организации. В ходе работы с ним выяснилось, что в момент, когда он заявлял, что фигурант подчинён руководству подполья, неизвестному ему, когда он получил задание выехать вместе с фигурантом, он откладывал это задание, оправдываясь тем, что у фигуранта нет времени, а в конце концов создал для себя легенду (до сих пор непроверенную), что фигурант полностью разорвал с ним контакты и не хочет больше с ним разговаривать на эти темы, так как подозревает его в сотрудничестве с [Управлением] Общественной безопасности, несмотря на то, что никаких доказательств деконспирации он представить не был в состоянии. Во время данных ему заданий он неоднократно проверялся путём наблюдения, и в это время сообщаемые им контакты подтверждались, однако, несмотря на это, к нему имеются претензии в том, что он по-прежнему стремится быть двуличным. Недавно он выдвинул предложение отправить его ещё с несколькими определёнными людьми в Англию - перебросить, знающий Андерса лично и его обычаи, он поедет убить его, так как имеет к нему серьёзные претензии за якобы преследование, но это исходило с его стороны, чтобы сделать себе возможным побег в Англию.
Кроме этого факта, на встречах он неоднократно старался проявить свое излишнее рвение, которое выражалось в провокационных предложениях, что, однако, вызывало подозрение, что он делает это с какой-то определённой целью.
В связи с этим предлагается вывести упомянутого из сети как двуличного и провокатора, который одновременно может быть использован иностранными разведывательными агентурами.
Начальник Отдела V
Воеводского управления общественной безопасности в Люблине
Заместитель Колендерский К., поручик.
Записка поручика Колендерского с анализом агентурной деятельности агента "Тень" (В. Пыха) от 17.04.1954.
IPN Lu 003/567 t. 1, s. 163-165, машинописный подлинник с подписью.
В основном повторяет содержание записки от 25.01.1954. Здесь приводится только заключение на л. 165.
Majac na uwadze dwulicowa role wymienionego, jako ukrytego wroga, zdolnego do prowadzenia wrogiej działalnosci, stawia sie wniosek wziasc go w aktywne rozpracowanie agenturalne.Перевод:
Учитывая двуличную роль указанного лица, как скрытого врага, способного вести враждебную деятельность, вносится предложение взять его в активную агентурную разработку.
Характеристика капитана Б. Дудека и поручика К. Колендерского на агента "Тень" (В. Пыха) от 1954 г.
IPN Lu 003/567 t. 1, s. 47-49; машинописный экземпляр для личного дела с подписью и небольшим количеством рукописных исправлений.
Lublin, dnia ............... 1954 r.Перевод:
SCISLE TAJNE
CHARAKTERYSTYKA Ag. „CIEN”
Ag. „Cien” – P y c h Wacław s. Jana i Eleonory zd. Studzinska, ur. 14.VII.1906 r. w Puławach, narodowosc polska, obywatelstwo polskie, pochodzenie społeczne – rzemieslnicze, zawod – pracownik umysłowy, zonaty, wykluczony z P.Z.P.R., zamieszkały Lublin ul. J. Dabrowskiego Nr. 16 m. 2.
Wymieniony wywodzi sie z rodziny rzemieslniczej i po ukonczeniu małej matury wstepuje do lotnictwa w Deblinie, gdzie w stopniu podoficerskim, przebywa do czasu wybuchu wojny Polsko-Niemieckiej.
W czasie działan wojennych w 1939 r. wycofuje sie na wschod znalazł sie na terenie Z.S.R.R., gdzie wstepuje do armii Andersa, z która wyjeżdza poza granice ZSRR i przebywa w wielu panstwach: Iraku, Iranie, Palestynie, Egipcie, Włosiech, ostatnio w Anglii, skad w koncu 1947 r. wraca do kraju i zamieszkuje chwilowo u swej tesciowej w Irenie k/Deblina.
Jak wynika z doswiadczen, Pych Wacław, miał on byc przesladowany w armii Andersa, za rzekome przekonania lewicowe za co do do konca słuzby nie był awansowany, ze stopnia sierżanta i niedopuszczony jako przedwojenny lotnik do słuzby w lotnictwie Andersa.
Natomiast jak zeznaje w swym oswiadczeniu Lipinski Jan /karta Nr. 28–30/ Pych miał sie zwierzyc do niego, że na terenie Anglii był Szefem Dywizjonu armii Andersa, oraz że jego znajomy D-ca Pułku lotnictwa w Deblinie pułkownik Wichierkiewicz w 1949 r. zbiegł samolotem do Anglii /materiał jednozrodlowy nie sprawdzony/.
W innej notatce /karta Nr. 33/ jest podano, że Pych na terenie Anglii był Szefem Dywizjonu 318 i przechodził przeszkolenie, lecz jakie brak danych. Przesłuchany na tą okolicznosc Urban Jan zeznaje, że o powyższym mowił mu Postowicz /nie żyje/. Ponadto w notatce /karta Nr. 38/ zrodło „Magig” z dnia 13.II.1952 r. podaje, że Sójka Stanisław pracownik „Spolnoty Pracy” w Lublinie, który do 1947 r. był w armii Andersa na terenie Anglii powiedział, że Pycha zna z tego okresu jako Szefa 303 dywizjonu w stopniu majora. Powyższe dane nie zostały dotychczas wyjasnione. Pych po powrocie do Polski 19.IV.1948 [sic] r. został zawerbowany do wspołpracy z organami B.P. przez PUBP w Garwolinie na podstawie kompromateriałow, podejrzany o wspołprace z "dwojka" do 1939 r., na co zrodlowych materiałów brak w sprawie.
W 1949 r. na wskutek wyjazdu „Cienia” do Lublina został przyjety na łacznosc do Wydziału IV-go, gdzie był na łacznosci do października 1952 r.
W tym okresie do wazniejszych materiałów jakie dał ag. „Cien” mozna zaliczyc dane odnosnie nastepujacych osob:
Nasutto Jan b. dyrektor Wojew. Ekspozytury Biura Handlu Detalitycznego [sic] Centrali Tekstylnej w Lublinie, ktorego "Cien" w swych doniesieniach charakteryzował jako wroga Polski Ludowej, który z racji zajmowanego stanowiska pomagał różnym sklepikarzom prywatnym w utrzymywaniu sklepow, ktora miały byc upanstwowiene, ze co miał otrzymywac od wymienionych wynagrodzenia, oraz wskazywał na szereg innych naduzyc dokonywanych przez Nasutto Jana.
Ponadto inf. "Cien" podawał, że Nasutto Jan i Krolik Aleksander oraz inne osoby naleza do nielegalnej organizacji. W/g słow "Cienia" Krolik proponował "Cieniowi" na wstapienie do rzekomo istniejacej organizacji w obecnosci Nasutty, na co "Cien" dał do zrozumienia wymienionym, ze on do czegos podobnego nalezy. W innych rozmowach Krolik Aleksander opowiadał "Cieniowi" o swojej działalnosci i swego brata Jana z okresu okupacji w konspiracji BCh–AK wykazujac przy tym nienawisc do ZSRR i Polski Ludowej, natomiast odnosnie obecnej przynaleznosci do nielegalnej organizacji /w 1949–50 r./ Krolik Aleksander powiedział, że w podziemiu pełni on funkcje d-cy kompanii, a jego brat Jan d-ce batalionu w stopniu majora. Organizacja miała bazowac na elemencie mikołajczykowskim i przygotowac grunt na wypadek wojny, na odcinku wiejskim, oraz dokonywac napadow terrorystyczno-rabunkowych.
Pozostałe osoby charakteryzowane przez ag. "Cien" utrzymywały kontakty z Nasutto i Krolikiem Aleksandrem, ktore rzekomo miały byc wtajemniczone w ich nielegalna działalnosc.
Na podstawie powyższych danych od inf, "Cien" /materiały jednosrodłowe - nie potwierdzone/ Wydział IV-ty WUBP w Lublinie aresztował Nasutto Jana, który w czasie sledztwa nie przyznał sie tak do przynaleznosci do nielegalnej organizacji jak i popełnionych przez siebie naduzyc, gospodarczych. W czasie sledztwa pytno Nasutte personalnie o przynaleznosci do nielegalnej organizacji figurantów sprawy i o inne szczegoły które podawał "Cien". Z powodu niedopracowania figurantów sprawy przed aresztowaniem Nasutty trudno jest obecnie ocenic czy "Cien" okłamywał Organa U.B. czy też Nasutto nie przyznał sie do przestepstw.
Faktem jednak jest, że Krolik Jan brat Krolika Aleksandra o ktorym podawał "Cien", że należy do nielegalnej organizacji faktycznie w 1951 r. został aresztowany przez Wydział III-ci za utrzymywanie kontaktów z Sikora Janem z Lubartowa b. prezes powiatowy PSL, który był powiazany z grasującą bandą na tamt. terenie Strzeleckiego. W pozniejszym okresie w sledztwie udowodniono Krolikowi Janowi napady rabunkowe z bronia wraz z innymi osobami, za co wyrokiem Sadu Wojskowego w Lublinie otrzynał 15 lat wiezienia. W sledztwie jednak na organizacje nie udalo sie wyjsc, lecz dane z celi wskazuja, że Krolik obawia się by teren się nie wsypał z czego wynika, że organizacja może istniec. Na Krolika Aleksandra i jego kontakty prowadzone jest rozpracowanie przez Wydzial V-ty tut. Urzedu.
Po aresztowaniu Krolika Jana i odbyciu paru spotkan z "Cieniem" przez b. Szefa W.U.B.P. w Lublinie plk. Krupskiego dnia 18.X.1952 r. zapadłą decyzja przyjetia "Cienia" na kontakt Wydz. V-go dla rozpracowania Krolika Aleksandra, który w/g "Cienia" ma należec do nielegalniej organizacji i innych osob z nim zwiazanych.
Wczasekresie pracy z "Cieniem" przez Wydz. V-ty tj. od pazdziernika 1952 r. do stycznia 1954 r. /w tyczniu "Cien" został wyeliminowany z siecię głownie był on nastawiony na rozpracowanie Krolika Aleksandra. W poczatkowym okresie "Cien" podawał szczegoły rozmów przeprowadzonych z Krolikiem Aleksandrem z których wynikało, że Krolik jest w organizacji, lecz aresztowanie Nasutto i brata Krolika Jana zwrociło uwage Krolika Aleksandra na "Cienia" ktorego zaczał podejrzewac o wspołprace z U.B. Ponadto czeste komisje kontrolne "Centrogalu" ktorym udzielał "Cien" pownych wyjasnien i oficjalne rozmowy niektorych pracowników Wydzialu IV-go doreszty pozbawiło zaufanie "Cienia" u elementu podejrzanego [рукописное исправление]. Wydzial V-ty dla potwierdzenia materialów otrzymanych od "Cienia" zawerbował inf. ps. "15" sposrod figurantów sprawy, który nie potwierdził otrzymnych materialów od "Cienia" i w rozmowie na temat jego kontaktów wymienił nazwisko "Cienia" do ktorego wykazał nienawisc dając tym samym do zrozumienie że ten go sypie. Wobec takiego stanu rzeczy wspołprace z inf. "1S" skierowano po innej linii na odcinku gospodarczym, ktory jako technik budowlany ma możliwosci ujawnienia elementu wrogiego.
Dotychcząz poważniejszych materiałów inf. "15" nie daje za wyjatkiem danych odnosnie różnych braków i niedociagniec w budownistwie.
Faktycznie do obecnej chwili sprawa Krolika Aleksandra nie została do konca wyjasniona.
Obok danych jakie udzielał "Cien" odnosnie osoby Krolika na szeregu spotkaniach sy nalizował on o powaznym szkodnictwie gospodarczym "Centrogalu" obciazajac przedewszystkim dyrektora Bierut Juliana.
Wszelkie doniesienia dotyczace pracowników "Centrogalu" Wydział V-ty przesyłał do W[y]działu IV-go ktory prowadził rozpracowanie na osoby przechodzace w doniesieniach "Cienia".
Charakterystycznym tu jest to, że "Cien" jako V-ce dyrektor od spraw handlowych, nie starał sie kolektywnie z dyrektorem Bierutem i innymi pracownikami "Centrogalu" ustawic należycie prace w "Centrogalu" a odgrywał role "rozrabiacza" [рукописное исправление] dajac materiał dla U.B. K.W. partii i innych instytucji w Warszawie i Łodzi o rzekomo wrogiej robocie Bieruta nic nie robiac sam jako V-ce dyrektor handlowy, ktory przede wszystkim miał za zadanie uzdrowic panujace tam stosunki.
W obecnym stanie rzeczy nie można konsekwentnie stwierdzic co jest prawda s danych przez "Cienia" poniewaz sprawa "Centrogalu“ jest poważnie skomplikowana w sledztwie ze wzgledu na duza ilosc asorytemntu [sic] towaru i odległy okres ktory winien byc zbadany przez poszczegolne komisje fachowe.
Niemniej jednak na podstawie całokształtu materiału wynika, że "Cien" nie pracował obiektywnie z U.B. i starał sie przede wszystkim kompromitowac czł. partii, co miedzyinnymi wzieto pod uwage i w m-cu styczniu br. wyeliminowano "Cienia" z sieci agenturalnej, w [s]tosunku do ktirego [sic] zaplanowano przedsiewziecie dla wyjasnienia jego spraw z przeszlosci i podany bedzie agenturalnemu rozpracowaniu. /plan rozpracowania w załaczeniu/.
Analizujac prace z inf. "Cien" nalezy stwierdzic, iż wystepujac tu poważne braki i niedociagniecia u pracowników pracujacych besposrednio z nim i tych, którzy mieli za zadanie sprawdzac otrzymana materiały od "Cienia" na rozne osoby, co na dzien dzisiejszy poważnie sprawe skomplikowało, ponieważ nie mamy pewnosci czy całosć otrzymanych materiałow polega na prawdzie.
Szczegolnie wystepuje tu brak głebokiej rownoległej sieci, która by mogła potwierdzac dane materiały przez "Cienia".
Inf. "Cien" był punktualny w pracy, zawsze przynosił opracowane juz doniesienia, na spotkania, udawal człowieka postepowego. Miały miejsce fakty wysuwania przez niego prowokacyjnych sugestii do pracownika B.P. Jak np.: na pisał oswiadczenie w ktorym wykazał, Niemiecka zbroďnia Katynska domagajac sie przy tym by zezwolono mu na oficjalne wystapienie, lub opublikowanie jego oswiaďczenia w prasie, w ktorym nie podal dostatecznych dowodow rzeczowych, wzglednie podał w ten sposob, że można miec pewne watpliwosci co do ich prawdziwosci. Innym razem dał propozycje by zezwolono mu na wyjazd za granice P.R.L. wraz z dwoma pracownikami B.P. dla zlikwidowania Andersa, w czem miały mu umozliwiec jego znajomosci z niektorymi ludzmi z okresu pobytu jego w Armii Andersa. Charakterystycznym je[s]t to, se propozycja jego odnocnie Andersa miała miejsce w m-cu styczniu w b.r. t.j. w chwi[l]i jego zwolnienia z zajmowanego stanowiska w "Centrogalu" co nasuwa wniosek ze mogł on w tym swoj okreslony cel, a co było rowniez wziete pod uwage przy eliminowaniu go z sieci ag.-informacyjnej.
Opracował:
/-/ Dudek, B. kpt.
/-/ Kolenderski K.por.
Люблин, … 1954 г.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
ХАРАКТЕРИСТИКА агента "Тень"
Агент "Тень" - Пых Вацлав, сын Яна и Элеоноры, урождённой Студзиньской, родился 14 июля 1906 года в Пулавах, польской национальности, польское гражданство, социальное происхождение - ремесленное, профессия - служащий, женат, исключён из ПОРП, проживает в Люблине, ул. Я. Домбровского, № 16, кв. 2.
Указанный происходит из ремесленной семьи и, окончив малую матуру, поступил на службу в авиацию в Демблине, где находился в звании унтер-офицера до начала польско-немецкой войны.
Во время военных действий 1939 года отступил на восток, оказался на территории СССР, где вступил в армию Андерса, с которой выехал за пределы СССР и находился в ряде стран: Ираке, Иране, Палестине, Египте, Италии, а затем в Англии, откуда в конце 1947 года вернулся в страну и временно проживал у своей тёщи в Ирены под Демблином.
Как показывают данные, Пых Вацлав якобы подвергался в армии Андерса преследованиям за свои мнимые левые убеждения, из-за чего до конца службы не был произведён в звании выше сержанта и, как довоенный лётчик, не был допущен к службе в андерсовской авиации.
Однако, по показаниям Яна Липиньского (листы нр. 28–30), Пых доверительно говорил ему, что находился в Англии в должности начальника дивизиона армии Андерса и что его знакомый - командир авиационного полка в Демблине, полковник Вихеркевич - в 1949 году бежал на самолёте в Англию (данные односторонние, непроверенные).
В другой записке (лист нр. 33) указано, что Пых в Англии был начальником 318-го дивизиона и проходил подготовку, однако сведения об этом отсутствуют. Допросом Яна Урбана установлено, что об этом ему рассказывал Постович (умер). Кроме того, в записке (лист нр. 38) источник "Магиг" от 13 февраля 1952 года сообщает, что Станислав Суйка, работник "Сполноты Працы" в Люблине, служивший до 1947 года в армии Андерса в Англии, говорил, что знает Пыха с того времени как начальника 303-го дивизиона в звании майора. Эти сведения до настоящего времени не были уточнены. Пых после возвращения в Польшу 19 апреля 1948 [sic] года был завербован для сотрудничества с органами госбезопасности Повятовым управлением УБП в Гарволине на основании компрометирующих материалов, как подозреваемый в сотрудничестве с "двойкой" до 1939 года, однако источниковых материалов в деле нет.
В 1949 году в связи с переездом "Тени" в Люблин он был принят на связь в IV отдел, где находился до октября 1952 года.
За этот период к важнейшим материалам, предоставленным агентом "Тень", можно отнести сведения о следующих лицах:
Ян Насутто - бывший директор воеводской экспозитуры Бюро розничной торговли Центрального текстильного управления в Люблине, которого "Тень" в своих донесениях характеризовал как врага Народной Польши, помогавшего частным торговцам сохранять магазины, подлежащие национализации, за что получал от них вознаграждения, а также указывал на ряд других злоупотреблений, совершённых Насутто.
Кроме того, информатор "Тень" утверждал, что Насутто Ян и Кролик Александр, а также другие лица принадлежат к нелегальной организации. По словам "Тени", Кролик предлагал ему вступить в эту якобы существующую организацию в присутствии Насутты, на что "Тень" дал понять, что он сам уже состоит в чем-то подобном. В других разговорах Кролик Александр рассказывал "Тени" о своей и своего брата Яна деятельности в период оккупации в подполье БХ–АК [Крестьянских батальонов - Армии Крайовой - С. Р.], выражая при этом ненависть к СССР и Народной Польше. Что касается принадлежности к нелегальной организации (в 1949–50 гг.), Кролик Александр говорил, что в подполье он исполняет функции командира роты, а его брат Ян - командира батальона в звании майора. Организация якобы базировалась на миколайчиковском элементе и готовила почву на случай войны, действуя в сельской местности, а также проводя террористические и разбойные нападения.
Остальные лица, характеризованные агентом "Тень", поддерживали контакты с Насуттой и Кроликом Александром, которые, по его утверждению, якобы были посвящены в их нелегальную деятельность.
На основании приведённых выше сведений, полученных от информатора "Тень" (материалы односторонние - неподтверждённые) IV отдел ВУБП в Люблине арестовал Яна Насутто, который в ходе следствия не признал ни принадлежности к нелегальной организации, ни экономических злоупотреблений. Во время следствия Насутту лично допрашивали о принадлежности фигурантов дела к нелегальной организации и о других подробностях, которые сообщал "Тень". Из-за недоработки по фигурантам дела до ареста Насутто в настоящее время трудно оценить, лгал ли "Тень" органам УБ или же Насутто просто не признался в преступлениях.
Фактом, однако, остаётся то, что Ян Кролик, брат Александра Кролика, о котором сообщал "Тень", действительно в 1951 году был арестован III отделом за поддержание связей с Яном Сикорой из Любартова - бывшим повятовым председателем ПСЛ, связанным с действовавшей там бандой Стжелецкого. Позднее на следствии было доказано участие Кролика Яна в вооружённых разбойных нападениях вместе с другими лицами, за что приговором Военного суда в Люблине он получил 15 лет тюрьмы. Во время следствия однако выйти не удалось, хотя данные из камеры показывают, что Кролик опасается, чтобы по неосторожности не выдать место, из чего следует, что организация может существовать. В отношении Кролика Александра и его связей ведётся разработка Пятым отделом данного управления.
После ареста Кролика Яна и проведения нескольких встреч с "Тенью" бывшим начальником Воеводского управления общественной безопасности в Люблине полковником Крупским, 18 октября 1952 г. было принято решение о принятии "Тени" на контакт V отдела для разработки Кролика Александра, который, по словам "Тени", принадлежит к нелегальной организации, и иных связаннных с ним лиц.
В течение периода работы с "Тенью" через V отдел, то есть с октября 1952 г. до января 1954 г. (в январе "Тень" был исключён из агентурной сети), он был главным образом нацелен на разработку Кролика Александра. В начальный период "Тень" передавал подробности разговоров, проведённых с Кроликом Александром, из которых следовало, что Кролик состоит в организации; однако арест Насутто и брата Кролика - Яна - привлёк внимание Кролика Александра к "Тени", которого он начал подозревать в сотрудничестве с УБ. Кроме того, частые контрольные комиссии "Центрогала", которым "Тень" давал определённые объяснения, и официальные разговоры некоторых работников IV отдела в итоге лишили "Тень" доверия со стороны подозреваемых элементов. V отдел, для подтверждения материалов, полученных от "Тени", завербовал информатора под псевдонимом "15" из числа фигурантов дела, который не подтвердил полученные от "Тени" материалы и в разговоре на тему его контактов назвал фамилию "Тени»" к которому проявил ненависть, дав тем самым понять, что тот его сдаёт. В связи с таким положением сотрудничество с информатором "15" было направлено по другой линии - на хозяйственный участок, где он, как строительный техник, имеет возможности выявления враждебных элементов.
До настоящего времени информатор "15" не даёт более серьёзных материалов, за исключением данных, касающихся различных недостатков и упущений в строительстве.
Фактически, по сей день дело Кролика Александра не было до конца разъяснено.
Помимо сведений, которые передавал "Тень" относительно Кролика, на ряде встреч он информировал о серьёзном хозяйственном вредительстве в "Центрогале", обвиняя прежде всего директора Юлиана Берута.
Все донесения, касающиеся работников "Центрогала", V отдел пересылал в IV отдел, который вёл разработку лиц, упоминавшихся в донесениях "Тени".
Характерно здесь то, что "Тень", занимая должность заместителя директора по торговым делам, не стремился совместно с директором Берутом и другими сотрудниками "Центрогала" должным образом организовать работу предприятия, а играл роль склочника, давая материалы УБ, воеводскому комитету партии и другим учреждениям в Варшаве и Лодзи о якобы враждебной деятельности Берута, при этом сам, как заместитель директора по торговле, ничего не делал, хотя именно он должен был прежде всего наладить существовавшие там отношения.
В нынешнем положении дел нельзя последовательно установить, что из данных, переданных "Тенью", является правдой, так как следствие по делу "Центрогала" серьёзно осложнено из-за большого ассортимента товаров и большого промежутка времени, который должен быть изучен соответствующими профессиональными комиссиями.
Тем не менее, на основании совокупности материалов следует, что "Тень" не работал объективно с УБ и стремился главным образом компрометировать членов партии, что, среди прочего, было принято во внимание, и в январе текущего года "Тень" был исключён из агентурной сети; в отношении него запланированы мероприятия для выяснения его прошлых дел и он будет отдан в агентурнуя разработку (план разработки прилагается).
Анализируя работу с информатором "Тень", следует констатировать, что имели место серьёзные недостатки и упущения у сотрудников, работавших непосредственно с ним, и у тех, кто должен был проверять полученные от "Тени" материалы на различных лиц, что на сегодняшний день серьёзно осложнило дело, так как нет уверенности, что все полученные материалы соответствуют действительности.
Особенно отмечается отсутствие глубокой параллельной сети, которая могла бы подтверждать данные, передаваемые "Тенью".
Информатор "Тень" был пунктуален в работе, всегда приносил уже подготовленные донесения на встречи, притворялся человеком прогрессивных взглядов. Имеют место факты выдвижения им провокационных предложений сотруднику УБ. Так, например, он написал заявление, в котором изложил немецкое преступление в Катыни, требуя при этом, чтобы ему разрешили официальное выступление или публикацию в печати его заявления, в котором он не привёл достаточных вещественных доказательств или изложил их таким образом, что можно было иметь определённые сомнения в их достоверности. В другой раз он выдвинул предложение разрешить ему выезд за границу ПНР вместе с двумя сотрудниками УБ для ликвидации Андерса, в чём ему должны были помочь его знакомства с некоторыми людьми периода пребывания его в армии Андерса. Характерно то, что его предложение относительно Андерса имело место в январе текущего года, то есть в момент его увольнения с занимаемой должности в "Центрогале", что наводит на мысль, что он мог иметь в этом определённую цель, что также было принято во внимание при его исключении из агентурно-информационной сети.
Составили:
/–/ капитан Б. Дудек
/–/ поручик К. Колендерский
